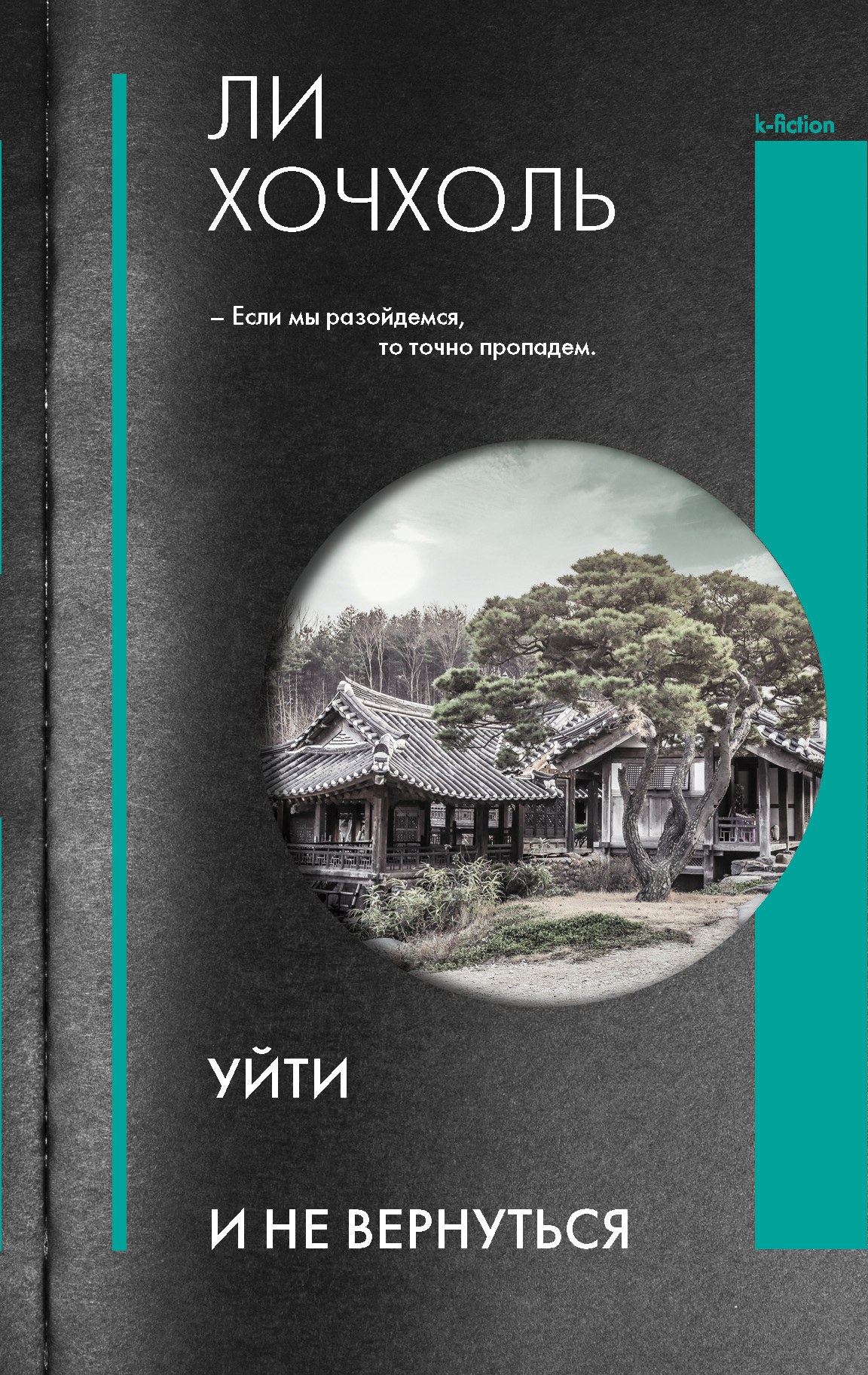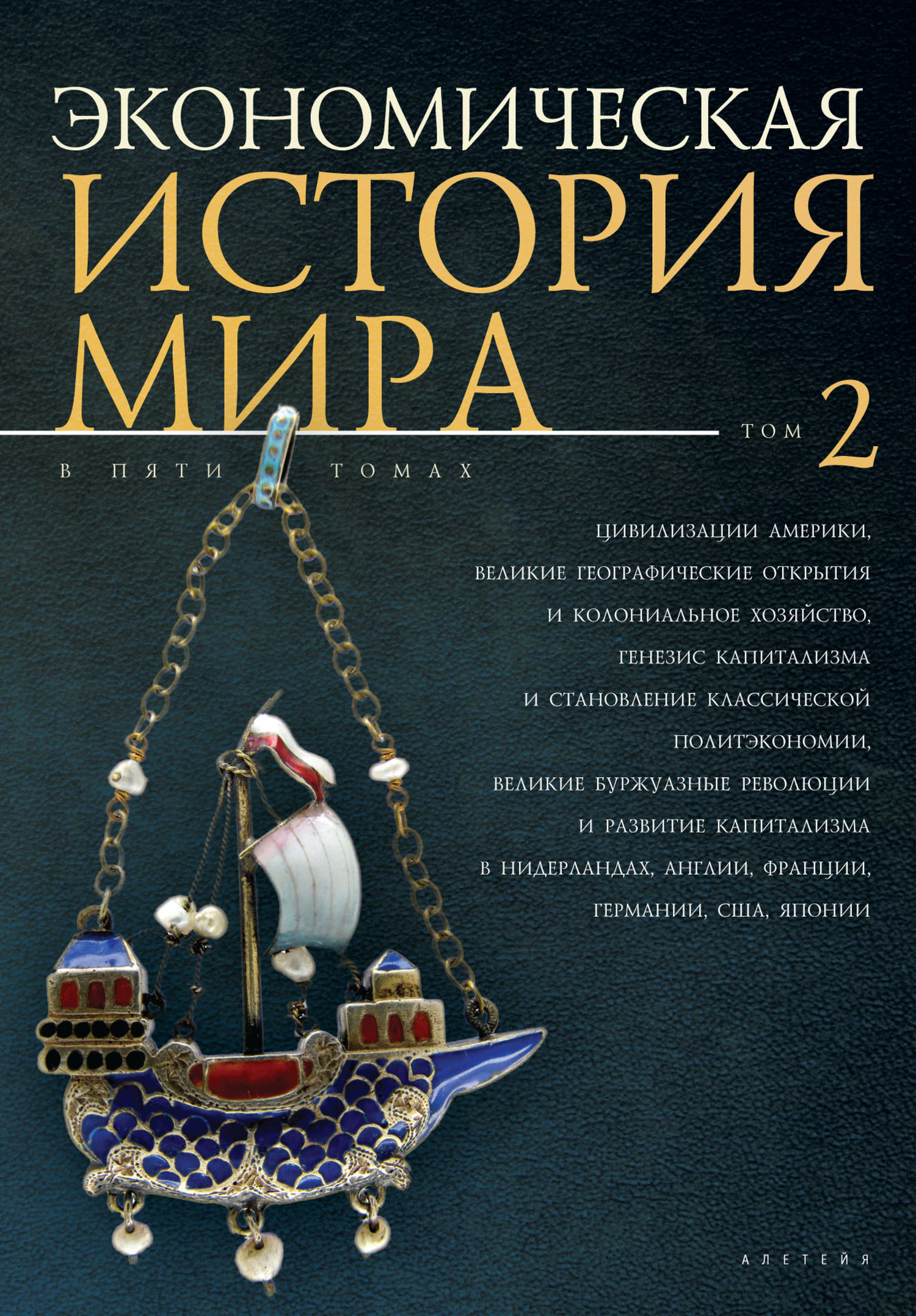Шрифт:
Закладка:
Под щитом красоты - это роман Александра Мотельевича Мелихова, в котором автор рассказывает о жизни и судьбе своего отца, известного художника и педагога Владимира Мелихова. Книга представляет собой увлекательное путешествие по страницам истории XX века, от революции и гражданской войны до перестройки и распада СССР. Читатель познакомится с творчеством и личностью Владимира Мелихова, его друзьями и коллегами, его любовью и страданиями, его мечтами и разочарованиями. Книга написана с большим уважением и любовью к отцу, но без прикрас и идеализации. Это живой и правдивый рассказ о человеке, который посвятил свою жизнь искусству, несмотря на все трудности и препятствия.
Если вы хотите прочитать эту книгу онлайн, вы можете посетить сайт knizhkionline.com, где вы найдете множество других интересных и полезных книг разных жанров и направлений. На сайте knizhkionline.com вы можете читать книги бесплатно и без регистрации, а также оставлять свои отзывы и комментарии. Не упустите свой шанс погрузиться в мир литературы с knizhkionline.com!