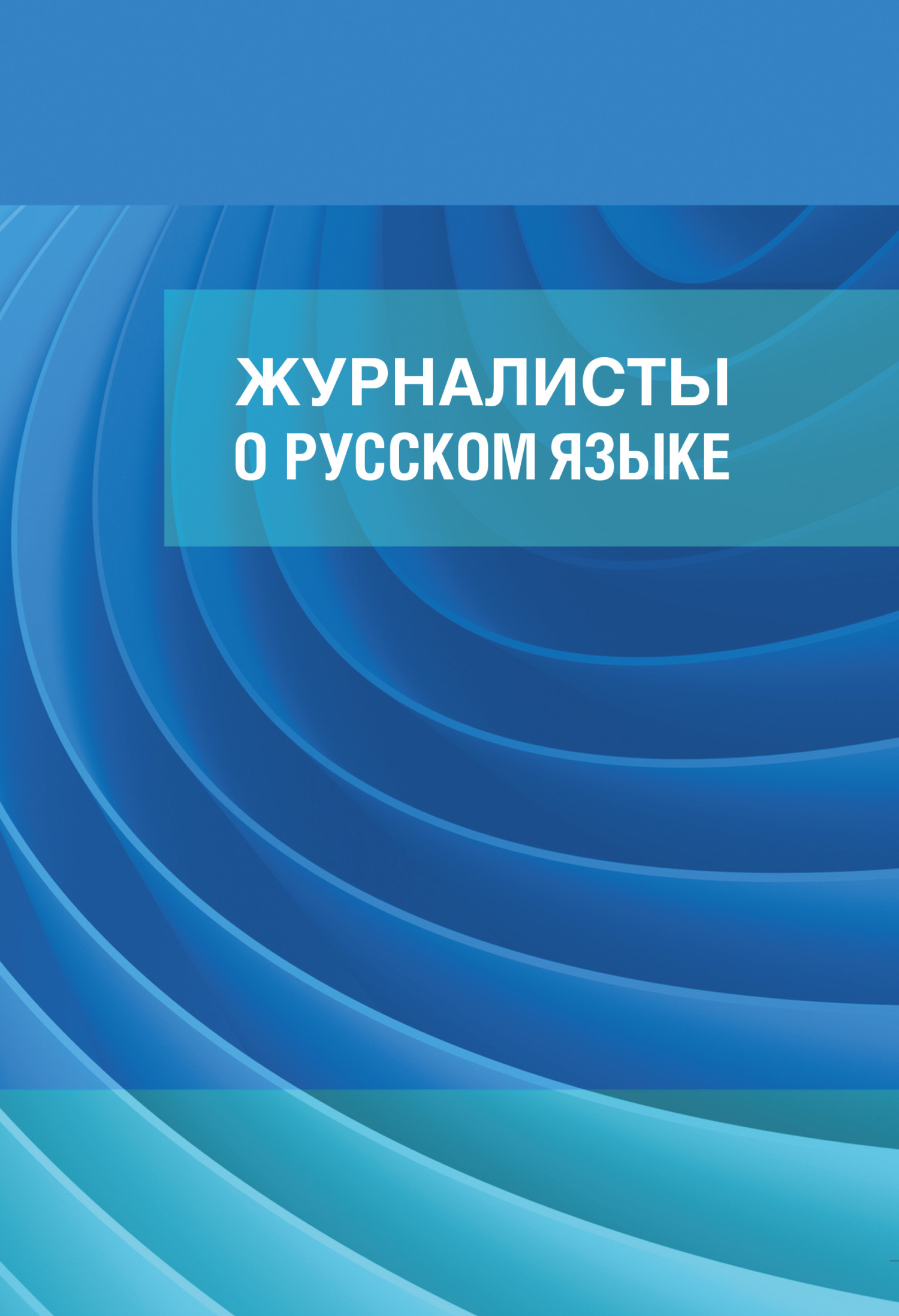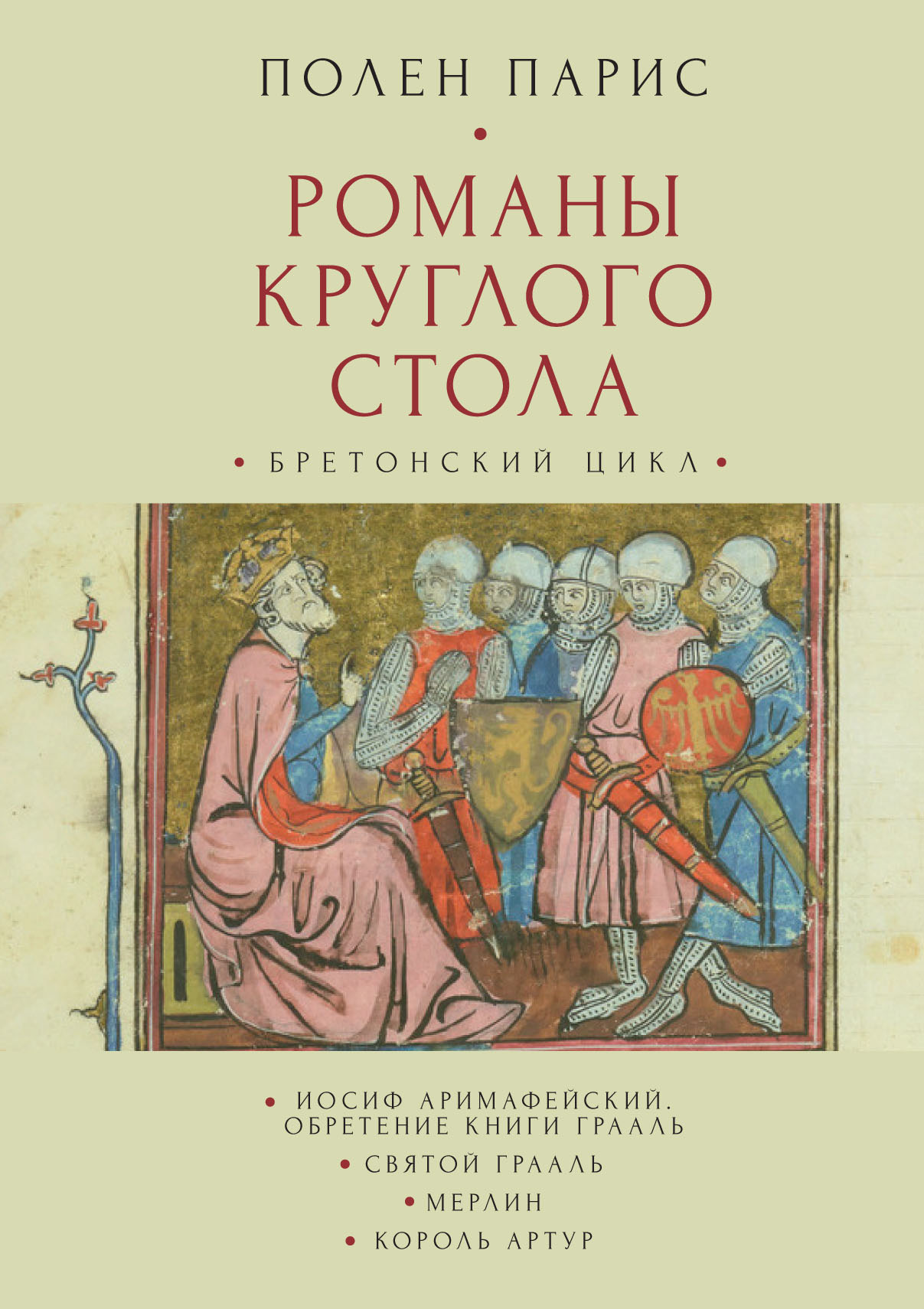Шрифт:
Закладка:
Доверься жизни - это книга французского писателя и путешественника Сильвена Тессона, в которой он рассказывает о своем опыте жизни в горах Гималаев в течение шести месяцев. Он выбирает этот способ, чтобы избавиться от суеты и стресса современного мира и посвятить себя медитации, чтению и наблюдению за природой. В своих заметках он делится своими мыслями о смысле жизни, счастье, любви и свободе. Он также описывает свои встречи с местными жителями, животными и другими путешественниками. Эта книга - приглашение к открытию нового взгляда на мир и себя, к поиску гармонии и внутреннего спокойствия.
Вы можете читать эту книгу онлайн на сайте knizhkionline.com, где вы найдете множество других интересных и полезных книг разных жанров и авторов. Чтение онлайн - это удобный и доступный способ познавать новое, развивать свое воображение и получать удовольствие от литературы.