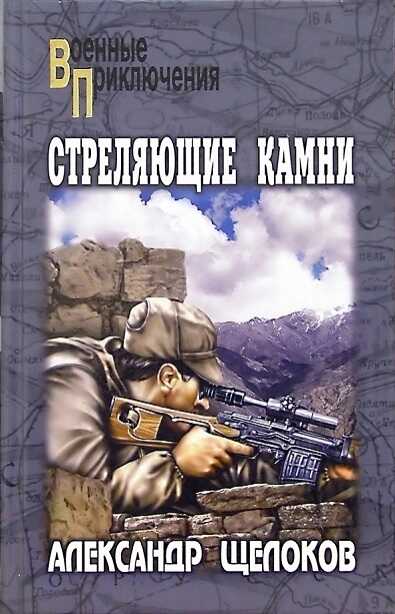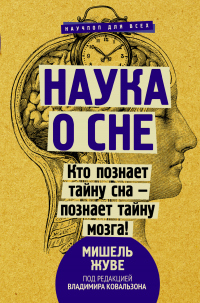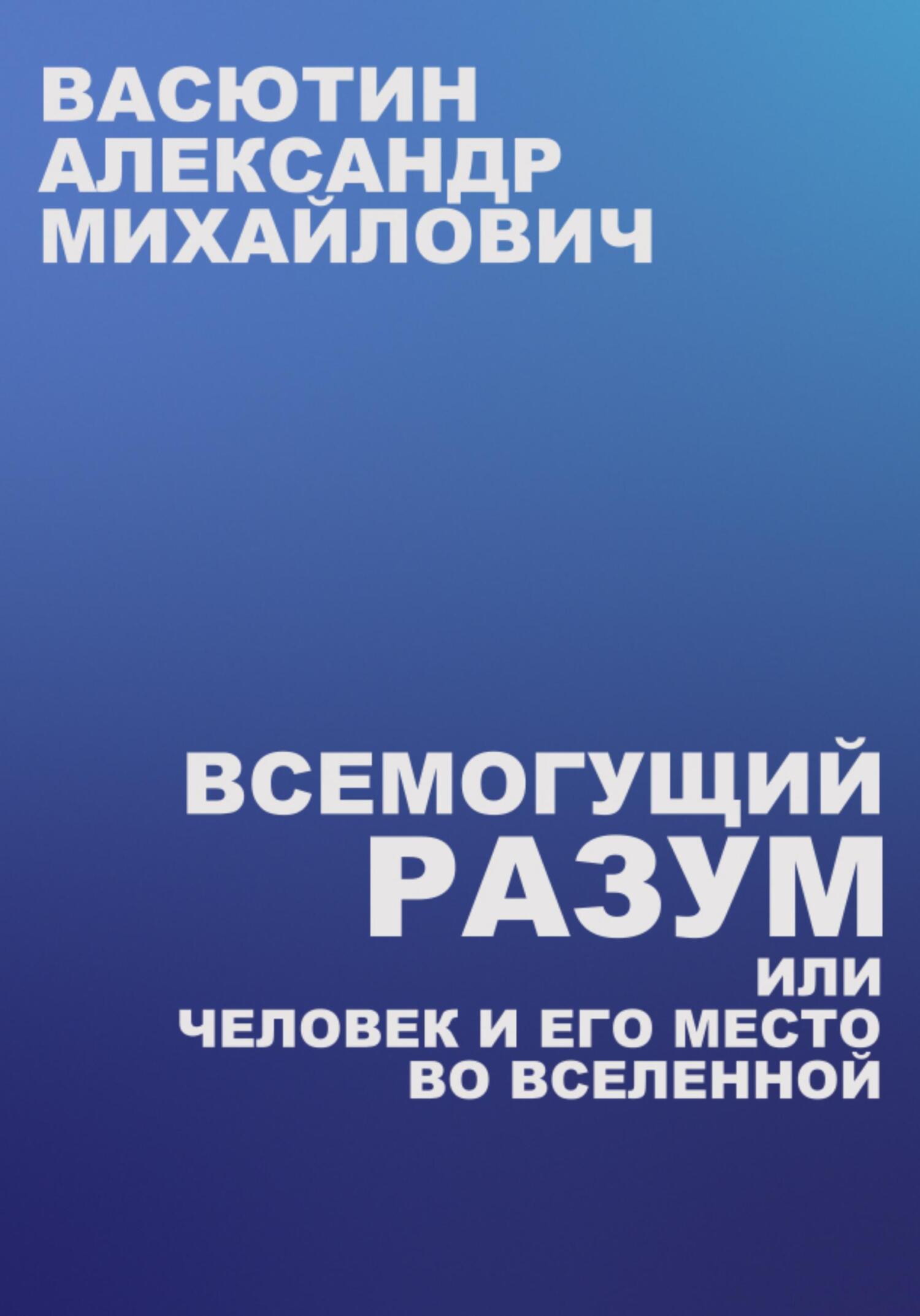Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Боец внутренних войск дезертирует, застрелив своих сослуживцев. Он делает это, чтобы завладеть деньгами, накануне присланными в часть, уверенный в том, что похищенные деньги обеспечат ему безбедную жизнь. Беглец старается укрыться от людей, но это плохо у него получается. Да и по его следу идет погоня, участники которой не собираются прощать преступнику смерть своих товарищей… В произведениях, вошедших в эту книгу признанного мастера отечественной остросюжетной литературы, описываются, казалось бы, недалекие, но уже кажущиеся нереальными 1990-е годы. Знак информационной продукции 12+
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Александрович Щелоков»: