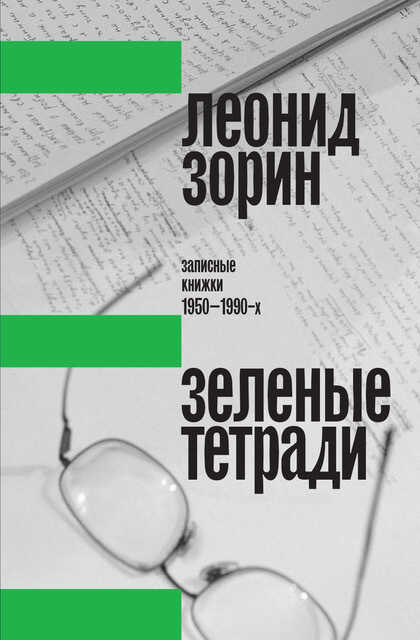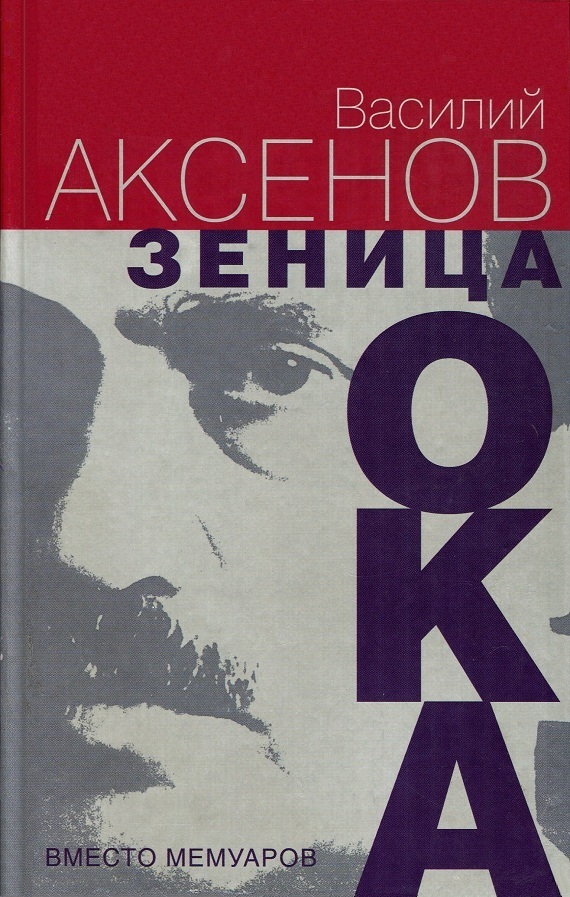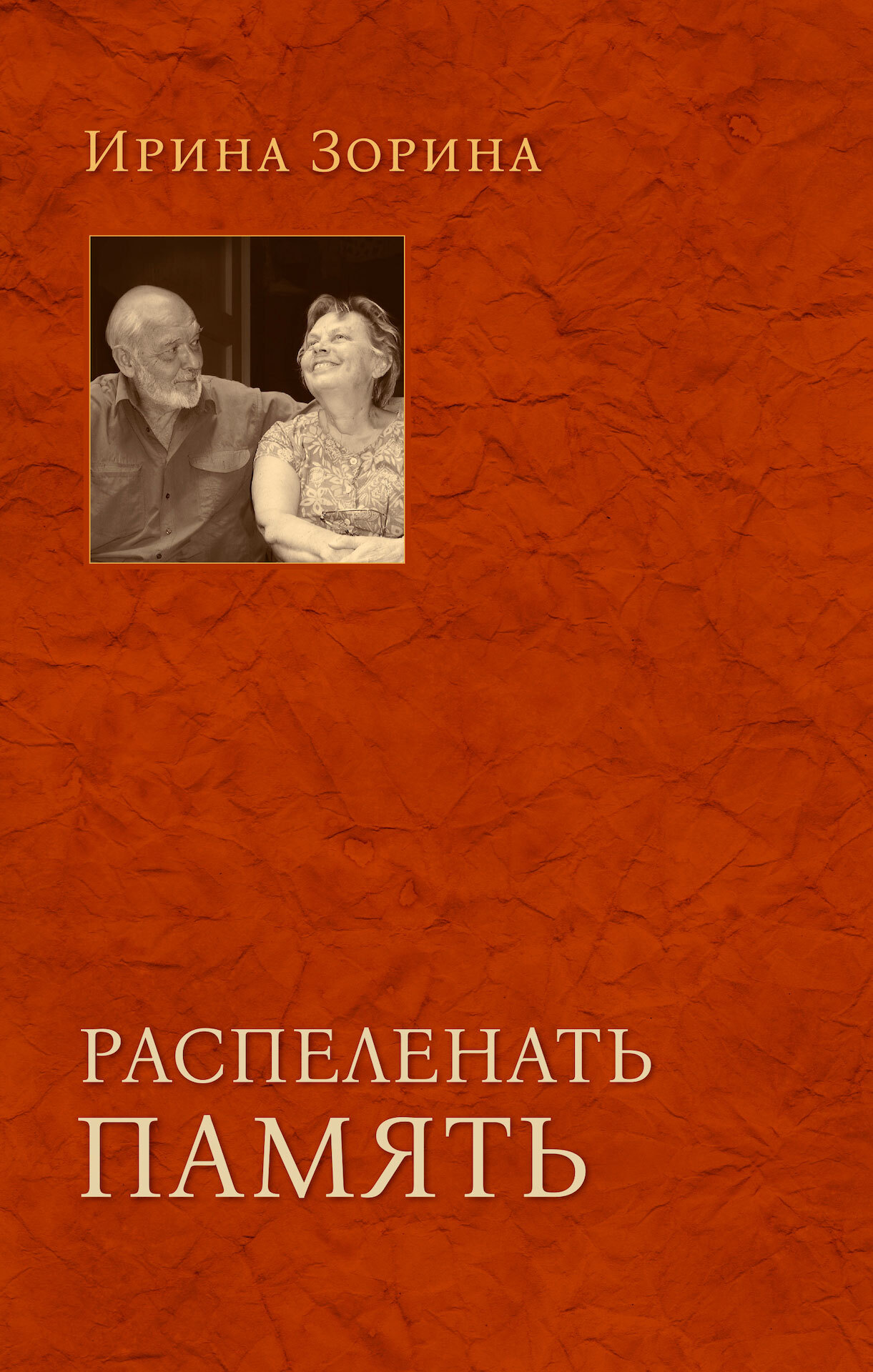Шрифт:
Закладка:
В книгу выдающегося драматурга и прозаика Леонида Зорина (1924–2020) вошли записи, охватывающие более чем полувековой период, начиная с 1950-х и по 1999 год. По словам автора, «Зеленые тетради» – это биография мысли: здесь собраны его размышления, наблюдения, юмористические пассажи и «словечки». Разбитые по десятилетиям, эти записи, в которые включены драматические вставки, представляют собой диалог Леонида Зорина с временем. Блестящий интеллект, независимость суждений, остроумие и эрудиция автора, внимательно вслушивающегося в разноголосицу эпохи, делают книгу не только уникальным комментарием к ней, но и литературным событием. Первое издание этой книги, выпущенной «Новым литературным обозрением» (1999), стало библиографической редкостью.