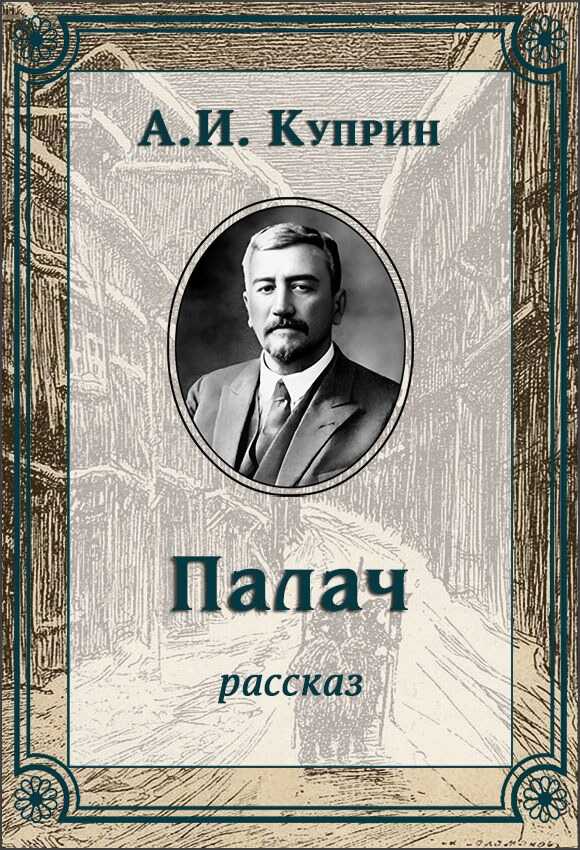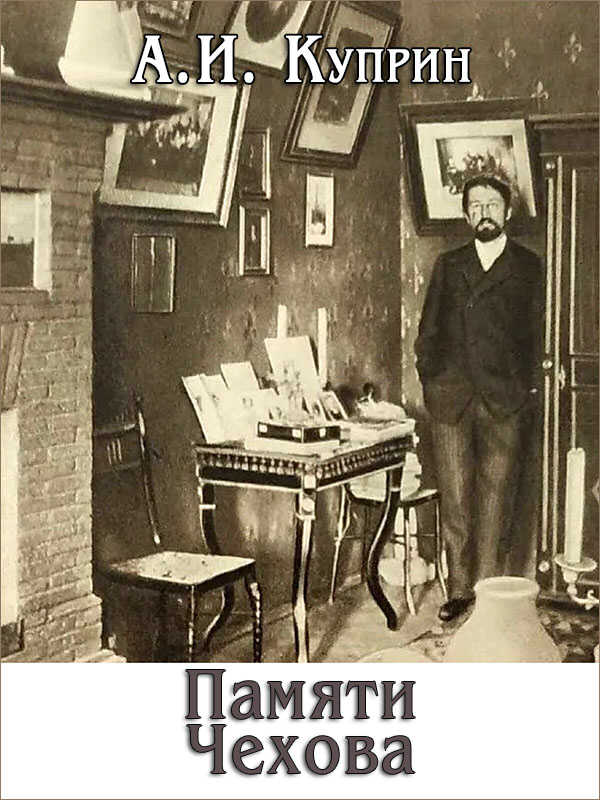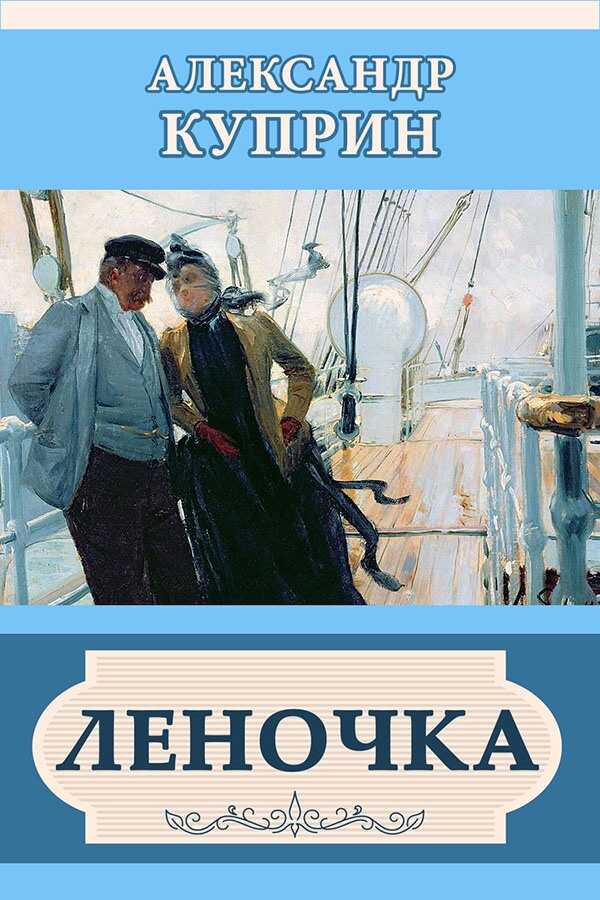Шрифт:
Закладка:
Если вы хотите читать книги онлайн на сайте knizhkionline.com, то вам стоит обратить внимание на классический роман Александра Ивановича Куприна “Поединок”. Это произведение, которое показывает жизнь русского офицерства в конце XIX века, его пороки, противоречия и героизм.
Главный герой романа - поручик Ромашов, который служит в одном из гарнизонов на Кавказе. Он - человек честный, справедливый и добрый, но не может найти свое место в обществе, где царят коррупция, бесчинство и беспринципность. Он влюбляется в жену своего начальника - красавицу Надежду Федоровну, которая несчастна в браке с жестоким и развратным полковником. Он - единственный, кто может защитить ее от насилия и унижения. Они - любовники, которые рискуют своей жизнью и честью ради своих чувств. Но их счастье не может длиться вечно. Они подвергаются преследованию, клевете и ненависти со стороны окружающих. Им предстоит столкнуться с самым страшным испытанием - поединком.
Как они смогут выжить в этой ситуации? Как они сохранят свою любовь и достоинство? Как они покажут свой характер и мужество?
Узнайте ответы на эти вопросы в потрясающем романе “Поединок”, который не оставит вас равнодушными. Читайте книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и переживайте за судьбу героев этого произведения.