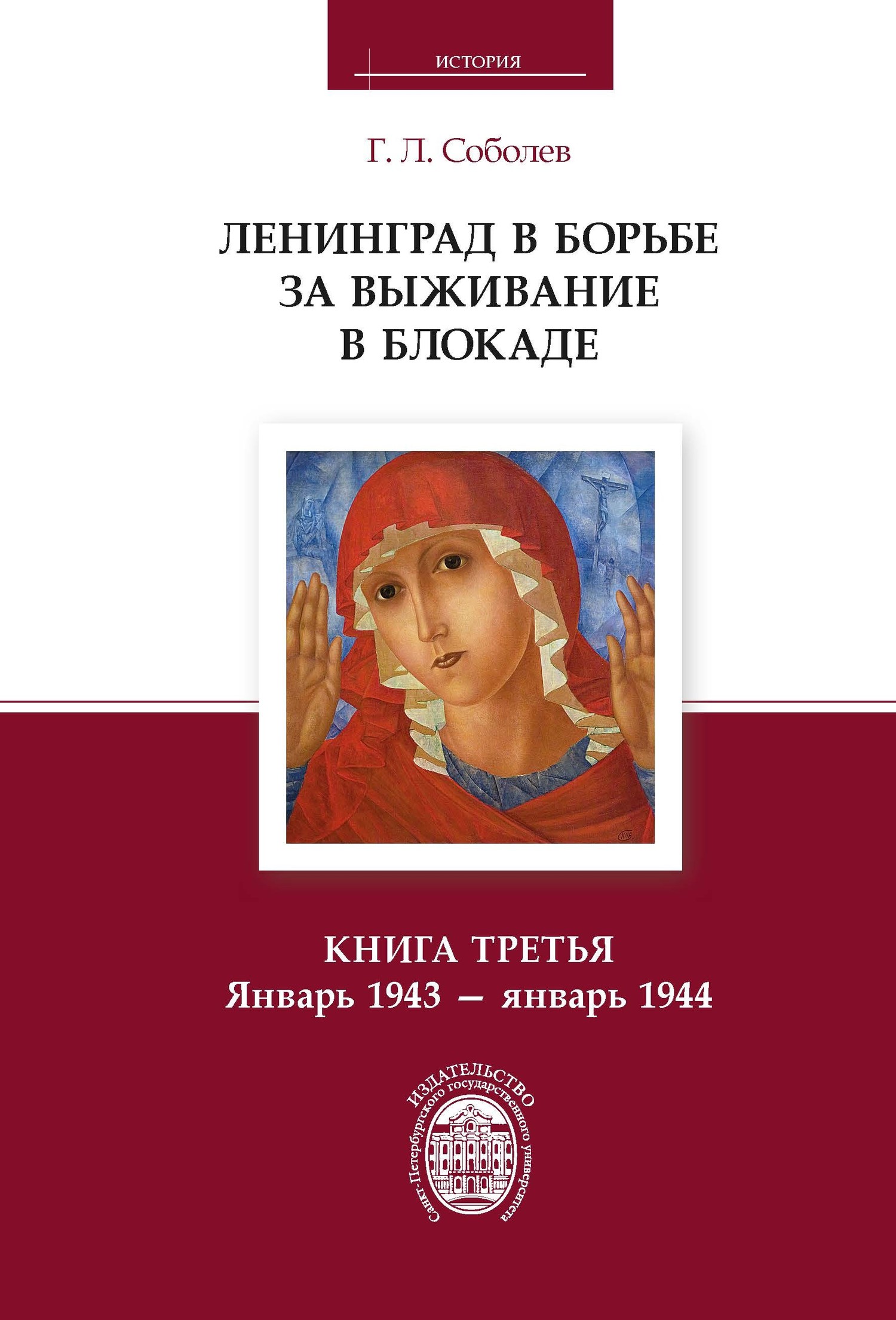Шрифт:
Закладка:
И все же следователь рискнул…
Урядник, проводник, двое понятых: кузнец с соседнего двора и пришканделявший с улицы Фомка. Кузнец стоял в сенях напуганный и самый разнесчастный, а Фомка не спускал глаз со следователя и ищейки, словно с экрана иллюзиона, куда, случалось, задарма протискивался по дружбе с Харитоном.
Полдня Кедров, урядник и проводник пробыли в избе у Колосовой и у Кучерявого. Изрыли щупами землю в сараях, на огородах, в амбаре. Все перерыли в комнатах, кладовках. Осмотрели табуреты, стулья, кровати, комод и даже… золу в печи. Кое-что уносили в чулан дома старосты и складывали там. Чулан урядник тут же замыкал на замок.
— Ищи!.. Ищи!.. — снова и снова понукал проводник собаку. Она тыкалась носом то влево, то вправо. Зорко наблюдавший за ней Фомка впервые проникся уважением к этому вышколенному представителю песьего рода.
Потом, как полагается, произвели опись всего, что могло бы стать «вещественными доказательствами».
Вернувшийся с поля староста гаркнул на шарахнувшихся в сторону мужиков-понятых. Но, заметив в своем доме следователя, осекся. Потом, обнаружив разор, вскипел:
— Обыск? — Выпятил грудь. — Не к добру, господин следователь, пошел на такое. Али какой наговор на меня, на старосту, имеешь?
В воротах — Ефим Кучерявый. В том же самом, с лаковым козырьком, картузе. Смотрит на всех недоумевающе, приложив руку к глазам, хотя солнца уже и нет.
Вечер подмял Комаровку. День, похоже, припас для нее столько тепла, что хватит до новой зари. Урядник ушел за лошадьми: они пустырничали на краю села, возле мельницы. В хлеву мычали недоеные коровы, терли задами дощатые стены, не тронув кормушек. Староста неподпоясанным сидел на опрокинутом вверх дном бочонке. Потряхивал кисетом, но курево, видно, не шло в нутро.
Бархатисто-черная, остромордая, с рыжими веками и умными, очень умными глазами, ищейка лежала в траве чуть поодаль от избы. Помахивала коротким хвостом. Вытянув передние лапы, положив морду на ноги дремавшего проводника и высунув язык, посапывала: притомилась.
Стоя в обнимку на крыльце, обе дочери старосты о чем-то шептались.
…Старуху повез на телеге Ефим. Он сидел у ее ног на передке и хлестал лошадь вожжами. А староста, не проронив и слова, примостился к изголовью. В двух саженях от них ехал Фома. Его возок, нагруженный всяким хламом, изъятым при обыске, жалостливо поскрипывал. Следом шла бричка — в ней следователь и урядник. Они прихватили с собой «груз», при мысли о котором к горлу подступала тошнота. Последним в таратайке ехал проводник с доберман-пинчером.
За околицей, у развилки дорог, стоял старик-бородач в белой рубахе, теперь уже вроспуск. Потирая друг о дружку босые ноги, рассказывал окружавшим его мужикам и бабам, что большущая «ищейная» собака скоро сызнова вернется и будет искать убивцев по всему уезду.
Глава X
Радея о медицинской помощи сельскому населению, Глыбинская губернская земская управа при всем том всячески стремилась урезывать и без того небольшие средства, которые отпускала на подготовку фельдшеров. Путь к экономки подсказал Соколов: школа сельских сестер. Все в ней управу мирило: и то, что вместо четырех лет обучения — один год; и то, что такие сестры будут ближе больным — сами из сел и деревень.
Готовились открыть ее в помещении коммерческого училища, Зборовский запросил у губернского земства подробную программу для фельдшерско-акушерской школы. Просмотрев, убедился: не совсем то, что нужно. И вместе с Соколовым они наметили сначала проводить теоретические занятия применительно к работе на участках, потом совмещать их с практикой в лечебнице. Надо мало-мальски познакомить будущих сестер со сведениями по анатомии, физиологии, гигиене. И, что особенно важно, дать им понятие об источниках и путях распространения инфекции, о предохранительных мерах. Главное же — научить оказывать лечебную помощь, научить уходу за больными.
Официальное открытие школы должно состояться через неделю. И вдруг — страшное событие в Комаровке. Зборовский пал духом: будто все это имело к нему непосредственное касательство.
— С чего вы, Сергей Сергеевич, взяли, что неопознанная — Даша Колосова? — пробовал разубедить его Кедров. И хотя был скуп на подробности, уверенно добавил: — Загадка будет разгадана. И, вероятно, очень скоро.
Жизнь земского врача — в санях да в телеге. С невеселыми думами подъезжал Зборовский к Комаровке. Давно не вел здесь приема. Уже много четвергов по его просьбе ездил сюда другой врач… Можно хитрить с кем угодно, но только не с самим собой: намеренно уклонялся от встречи с Дашей. Однако чем больше отдалялась та ночь после грозы, тем сильнее тревожился. Вспомнил успокоительную фразу Кедрова. Но почему Даши не оказалось на месте? Почему Кедров тут же не разыскал ее? Своенравная и беззащитная… Он ждал от нее любой выходки. Она ведь из тех непонятных ему деревенских существ, чьих поступков никак не угадаешь.
Летние сумерки в Комаровке самое бойкое время. Вдоль дороги — столб пыли: возвращается стадо. Бабы медовыми голосами зазывают скотину во двор. И вот уже в ведерцах звенят молочные струи.
Походив вокруг да около, он вдруг решительно обогнул колодец и, не дав себе отступить, направился к фельдшеровой — Дашиной избе. В окне бледный свет. Переступил порог. Его длинная тень, переломившись, легла на стену, где веером приклеены вырезанные из «Нивы» картинки. Он стоял в комнате, той самой, где осматривал мертвого Андреяна. Припомнились цепкий мороз, поясной ремень, багровая шершавая борозда на короткой шее самоубийцы, распростершегося возле кровати. Кровати фельдшера уже нет. И вообще ничего не осталось от прежнего. Дашина рука чувствуется во всем — в выбеленных стенах, в марлевых занавесках на окнах, и даже в накрытом белым лоскутом ведре воды.
Вот она, живая. Не такая, какой знал ее в амбулатории. Совсем домашняя: сидя расчесывает длинные русые волосы.
Даша поднялась точно в беспамятстве, а в глазах… такая сила упрека в ее глазах! Что сказать ей? Как объяснить, зачем он здесь? И можно ли вообще что-нибудь объяснить?
— Так-то, — ответил вслух собственным мыслям.
— Да, так…
Говори она больше — ничего большего не сказала бы. Ни словом, ни единым словом не укорила. Варианты надуманных оправданий вылетели из головы. Понял, как тяжело пережила все. Если Настенька, законная жена Ефима, убежала из Комаровки, то каково же здесь Даше? Хорошо еще, ее ворота дегтем не вымазали.
Даша слушала слова, каких ни один комаровский парень не сумел бы сказать. Сквозь толщу волос своих чувствовала холод его пальцев. Оттого ли, что давно никто ее не жалел, слукавила, не отстранилась, продолжая плакать; потому что, остановись она, притихни, — доктор тотчас уберет руку.
— Не все, Дашурка, в жизни положишь на