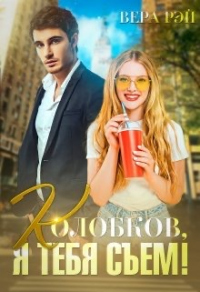Шрифт:
Закладка:
Бывают ли сказки для взрослых? Да! Читать себе сказку — это повод вспомнить, что самым великим исследователем является ребёнок! Только ребёнок так пытлив, так внимателен, так остро восприимчив к добру и злу, правде и лжи, вере и неверию. Ребёнок внутри вас всегда жаждет нового. Ребёнку всё-всё интересно! Я представляю вам свою новую книгу — это сказка для взрослых детей. Сказка про Федота-идиота и Ивана-дурака. Это сказка о жизни и выживании, о любви к себе и поиске похвалы, о принятии мира таким, каков он есть, и боязни, что «не получится». Куда заводит путь идиота, который постоянно бежит от себя? И к чему приводит путь дурака, который, по-своему определению, мир видит многомерно, стоит около света, солнца, Бога? Читайте сказку. Узнавайте себя. Осмысливайте. Осознавайте. И просто наслаждайтесь — смейтесь, удивляйтесь вместе с героями. Смакуйте чудесный, настоящий, вкусный русский язык, которым написана эта сказка. Доставьте себе это удовольствие!