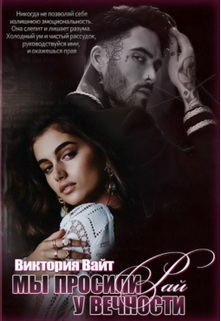Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу вошли два рассказа Юрия Казакова для детей школьного возраста: «Срип-скрип» и «На Еловом ручье».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Павлович Казаков»: