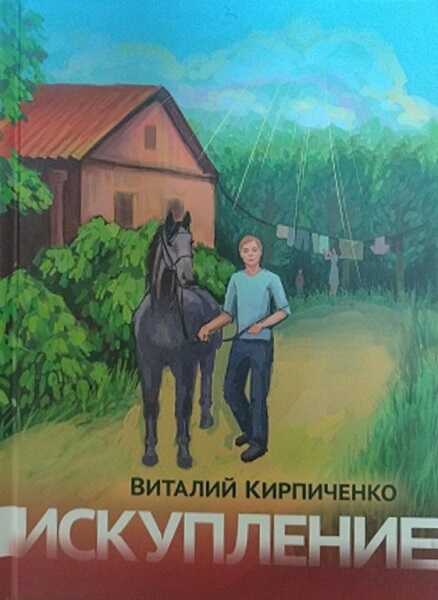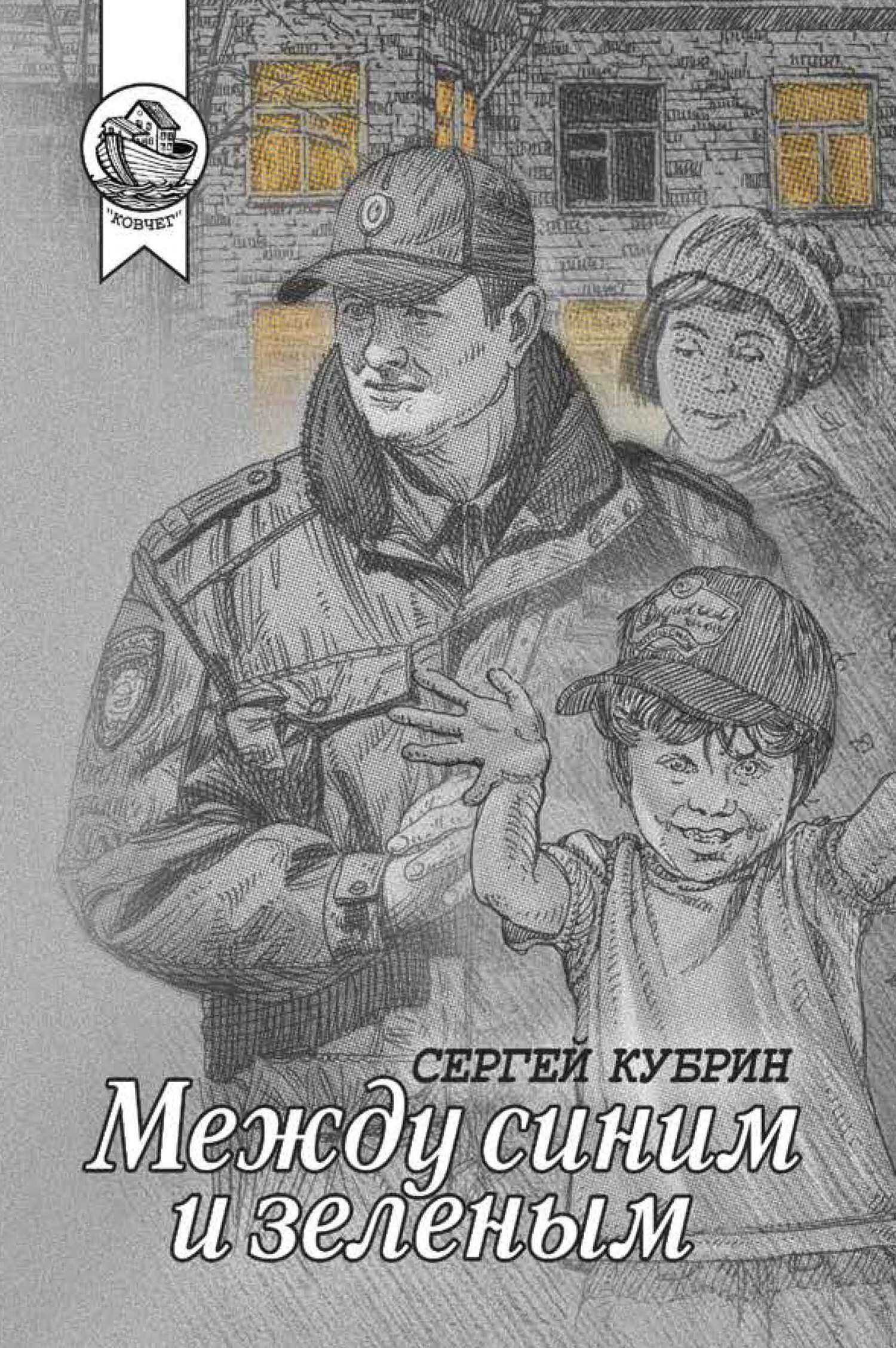Шрифт:
Закладка:
Главный герой книги Сергей вернулся на свою малую родину с чувством вины перед ней. Возникшее у него желание возродить родную деревню нашло отклик у многих, кто, как и он, утратил жизненный ориентир. Но для успеха мало иметь желание, нужны средства, а их-то и недоставало. Владелец золотых приисков Сарьян не очаровывал красавицу художницу Юлию рыцарскими подвигами, не одаривал дорогими подарками — он просто её любил. Его незаметная и осторожная любовь не могла остаться безответной. Юля поняла, что жизнь без этого человека будет пустой и бесполезной. Узнав от неё о неудачах компаньонов, Григорий Сарьян предложил им безвозмездную помощь. Однако его заподозрили в замысле всё прибрать к рукам… Дело закончилось миром и составлением генплана новой деревни — со школой, больницей, почтой, магазином и Дворцом культуры. Удачно сложилась и судьба Анатолия, он стал писателем и уехал в Красноярск со своей тайной любовью Ниной и её сыном.