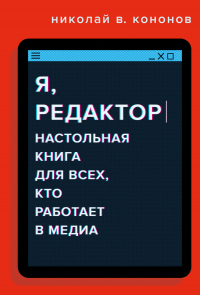Шрифт:
Закладка:
Новый сборник прозы Лидии Лавровской включает как уже знакомые читателям произведения, так и недавно написанные повести и рассказы. Все они так или иначе связаны с родным городом автора – великолепным субтропическим Сочи. Однако райские экзотические пейзажи и легендарные локации всемирно известного олимпийского курорта, колоритная история его становления – лишь фон, на котором разворачиваются людские судьбы нескольких поколений, пульсирует и торжествует жизнь во всем ее многообразии. Герои Лавровской, сочинцы и приезжие, молодые, старые, совсем малые, показаны с неизменным понимающим сочувствием, с любовью и мягким юмором. И с неизменной верой в определяющее значение для них, для всех нас великой, такой человечной и прекрасной русской культуры!Книгу завершает документальное исследование-эссе важной страницы биографии А. С. Пушкина «Первая любовь длиною в жизнь». Литературовед И. А. Кресикова убеждена, что оно «закрыло тему загадочной – она же и первая, и „утаенная“ – любви Пушкина. Кольцо сомкнулось. Нет пустого звена. Все ясно».