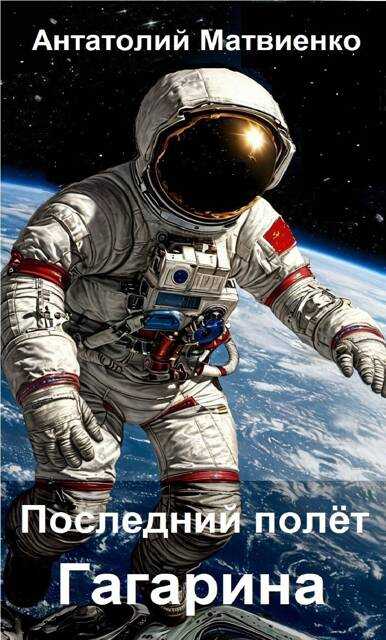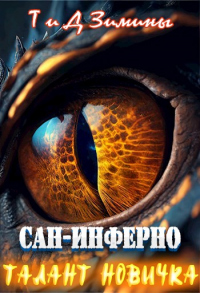Шрифт:
Закладка:
Леденящее чувство опасности, риск разоблачения — постоянные спутники разведчика Теодора Неймана, внедренного в структуру нацистского Рейха. Однажды перед ним ставят задачу вступить в связь с Элен, племянницей британского резидента, не успевшей уехать из Германии до сентября 1939 года. Но чем обернется для разведчика видимость возвышенных чувств и использование юной художницы для своих целей? Годы борьбы за выживание на службе ненавистному режиму посвящены только одному: выполнить особо важное задание и вернуться с холода — домой, на Родину. Однако, когда поступает команда на выполнение этого задания, оно оказывается совершенно не таким, как ожидалось… Новую книгу Анатолия Матвиенко можно было бы отнести к жанру шпионского романа, но компетентные суждения автора о судьбах контрразведчиков в самых горячих точках придают ей бо́льшую глубину, не на шутку заинтриговывая читательскую аудиторию.