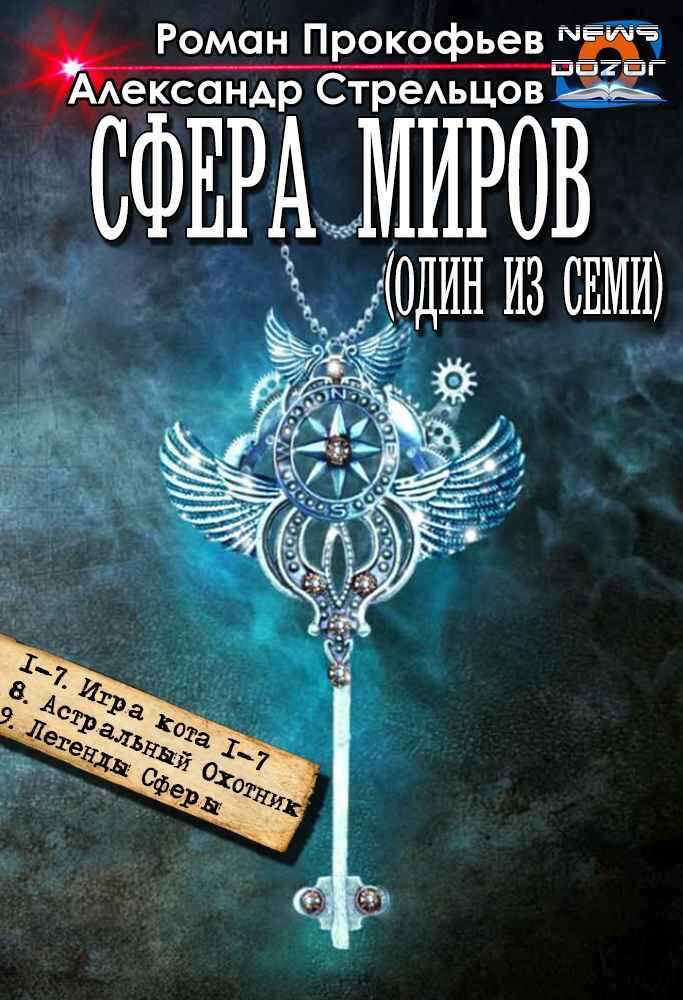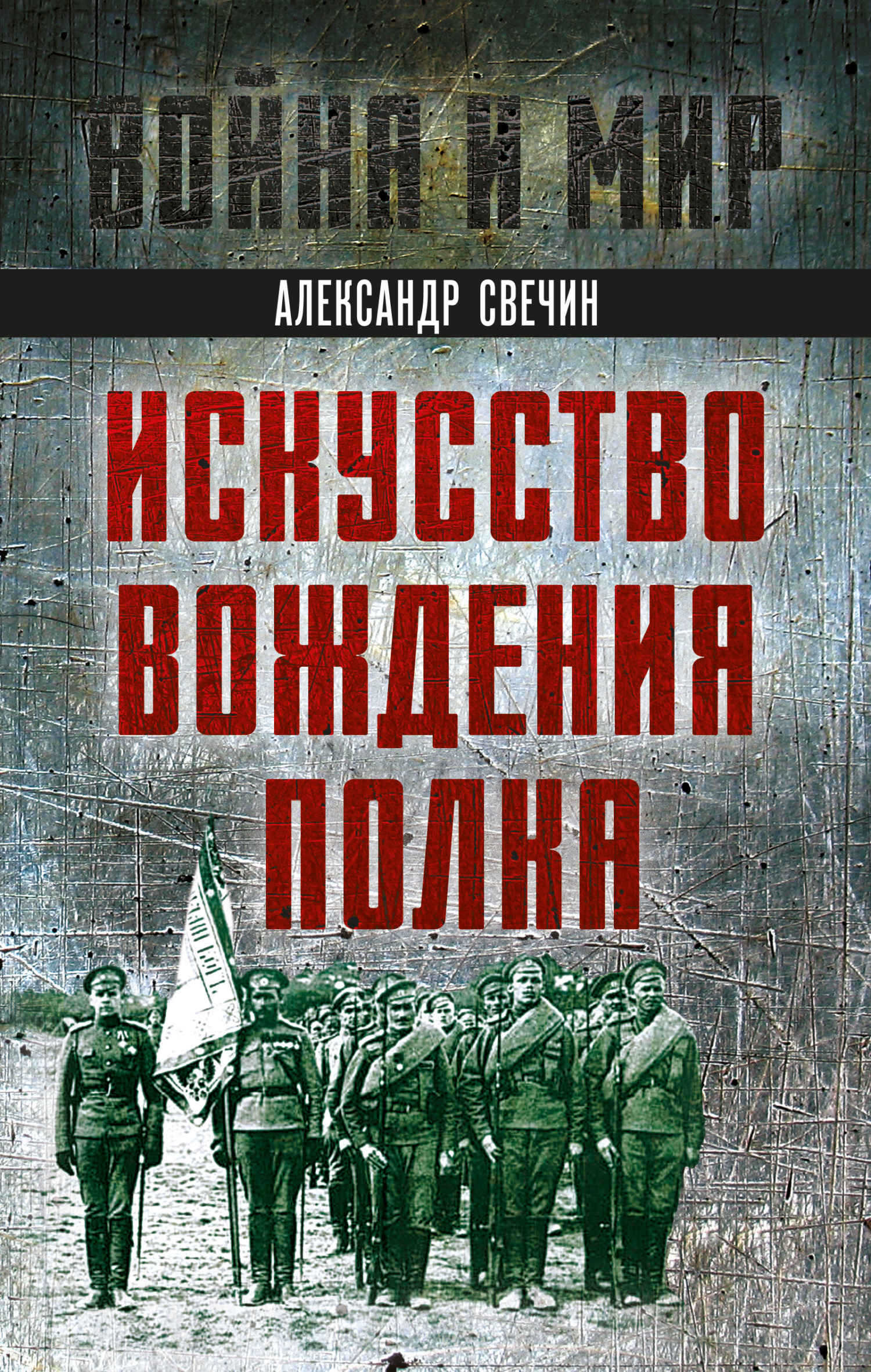Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Снег да лед кругом. Господи, сколько льда… Лед и ветер, ветер и холод, пробирающий до жилки.Несколько дней шли дожди, и кубанская земля раскисла в жидкую грязь, по которой тащились и кавалерия, и пехота, и обоз с гражданскими и ранеными. А потом ударил мороз, и в лед обратилось все, что было вокруг: земля, измокшее платье, сабли. Одеяла на раненых покрылись ледяной коркой, которую с ужасом обнаружили сестры милосердия и сбивали потом штыками санитары…»
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Наталья Юрьевна Анискова»: