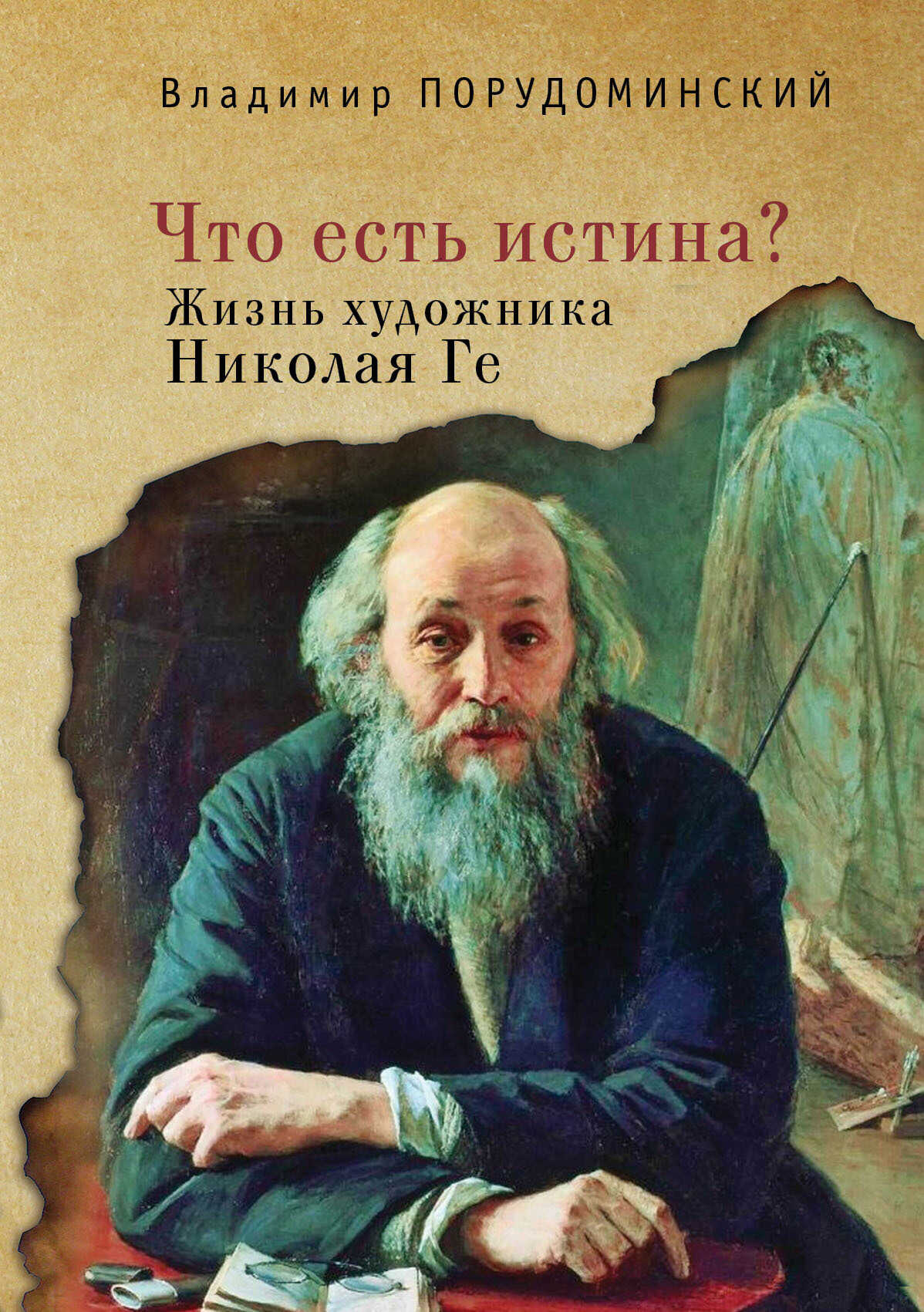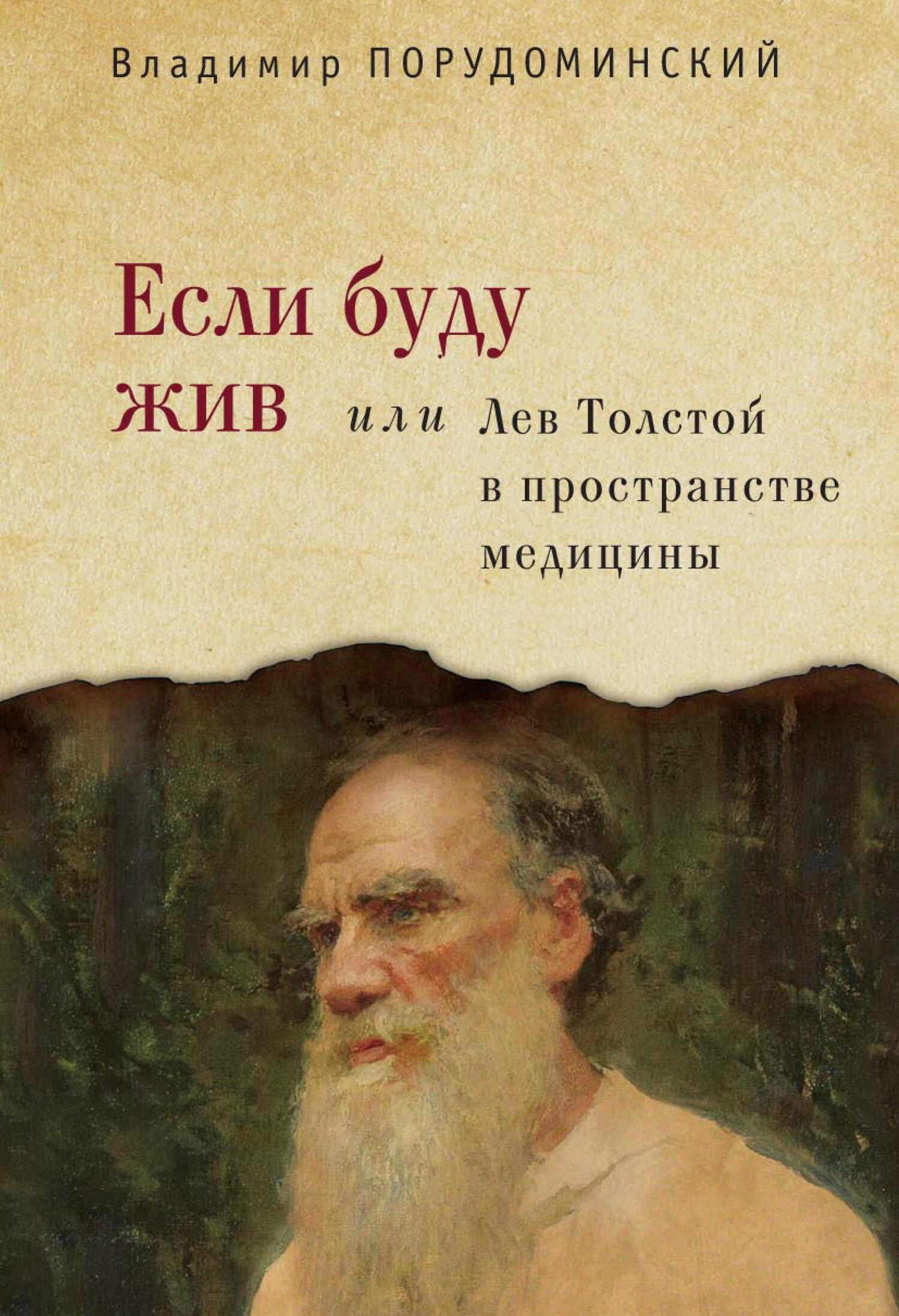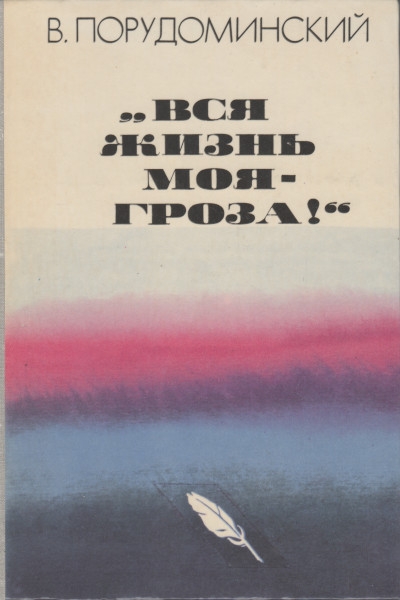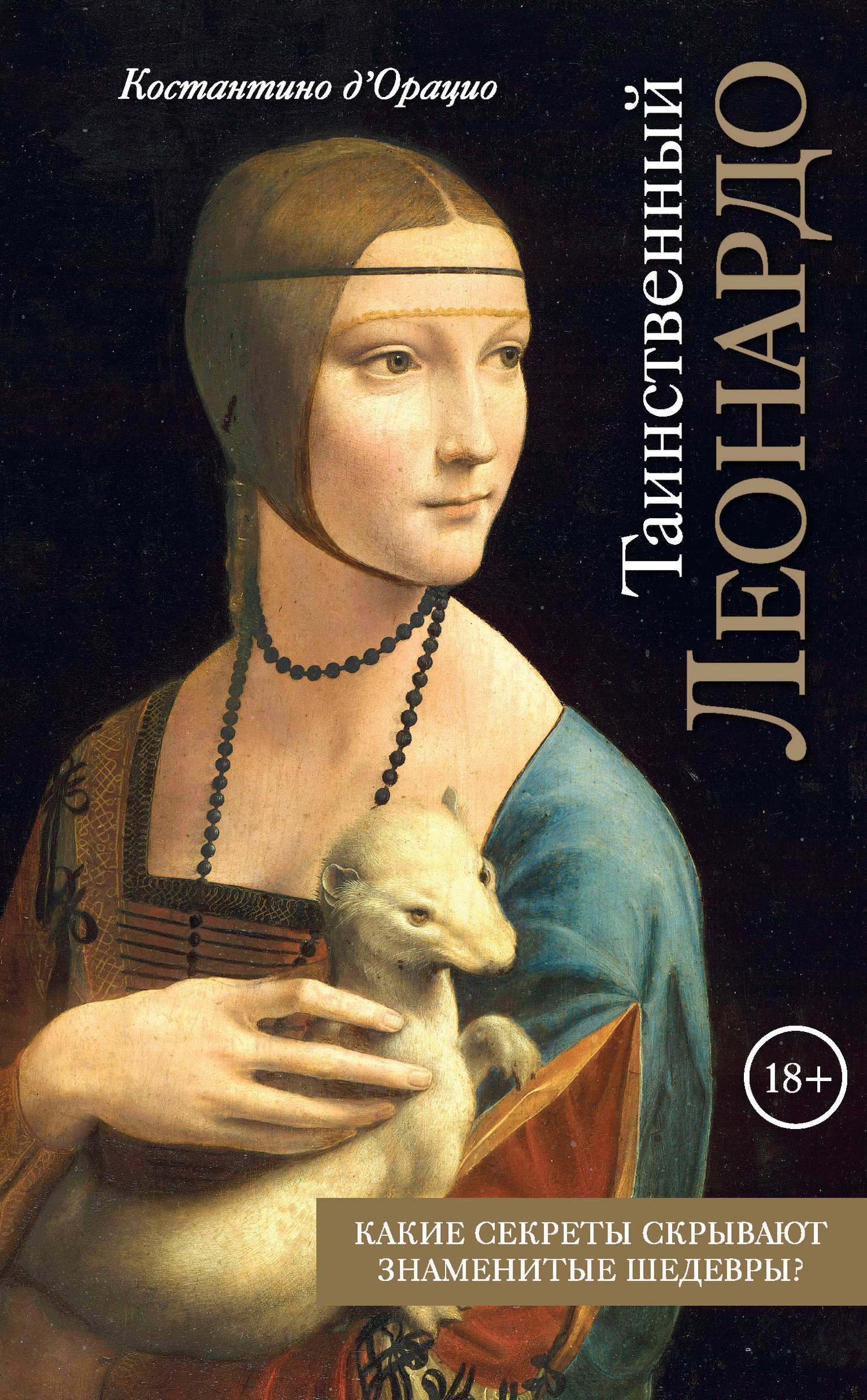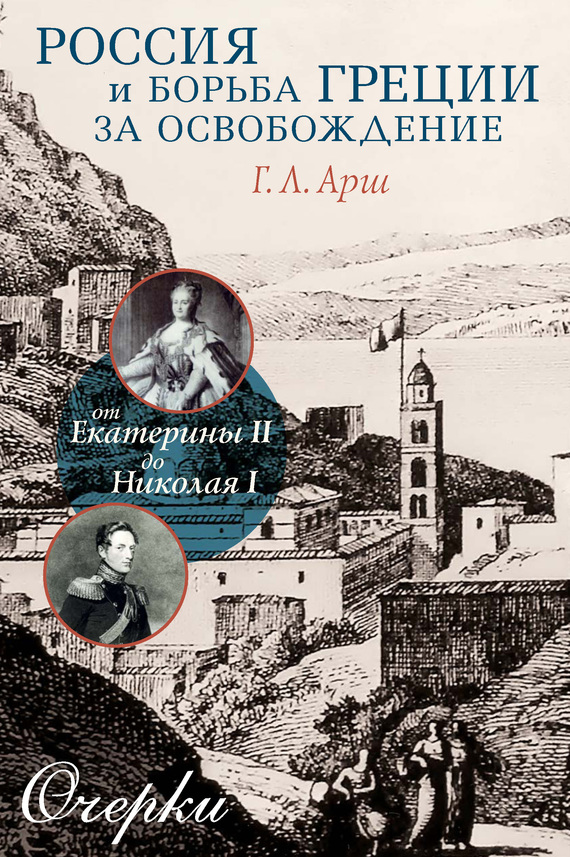Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Николай Николаевич Ге (1831–1894) – выдающийся русский художник, мастер портрета и исторической живописи. Автор книги предлагает нам свой взгляд на биографию этого неординарного художника, чье творческое наследие скрывает в себе некую мистическую тайну.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Ильич Порудоминский»: