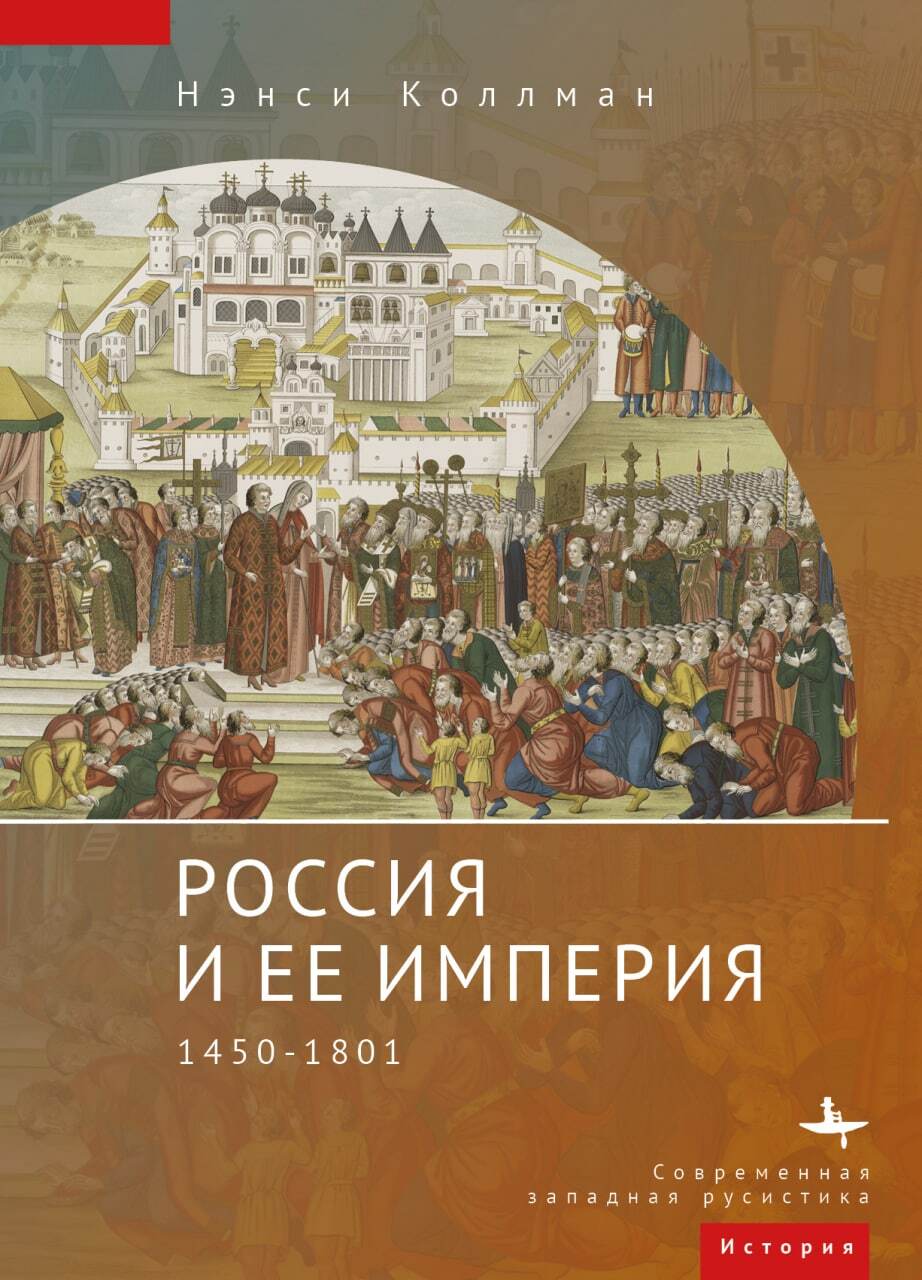Шрифт:
Закладка:
Эта книга — уникальное исследование истории России с XV по XVIII век, которое показывает, как страна превратилась из небольшого княжества в могущественную империю. Это книга, которая рассматривает Россию не как однородное и централизованное государство, а как «империю различий», где правительство управляло многочисленными народами с разными культурами, языками и религиями.
Автор книги Нэнси Шилдс Коллманн — известный американский историк и русист, профессор Уильямсбургского колледжа. Она опирается на богатый источниковый материал, включая хроники, документы, письма, дневники, мемуары и другие свидетельства эпохи. Она анализирует различные аспекты жизни России и ее империи, такие как политика, экономика, социальная структура, право, образование, культура, идеология, войны, дипломатия и международные отношения.
Книга состоит из трех частей: первая охватывает период с 1450 по 1689 год, когда Россия расширила свои границы за счет завоевания соседних территорий; вторая посвящена периоду с 1689 по 1762 год, когда Россия стала европейской державой под правлением Петра I и Екатерины I; третья описывает период с 1762 по 1801 год, когда Россия столкнулась с новыми вызовами и противоречиями под правлением Екатерины II и Павла I.
Книга Нэнси Шилдс Коллманн — это не только научный труд, но и увлекательное повествование, которое захватывает читателя своей яркостью и детальностью. Это книга, которая дает новый взгляд на историю России и ее империи, показывая ее сложность и многообразие.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Но будьте готовы к тому, что эта книга расширит ваши знания и понимание России и ее империи.