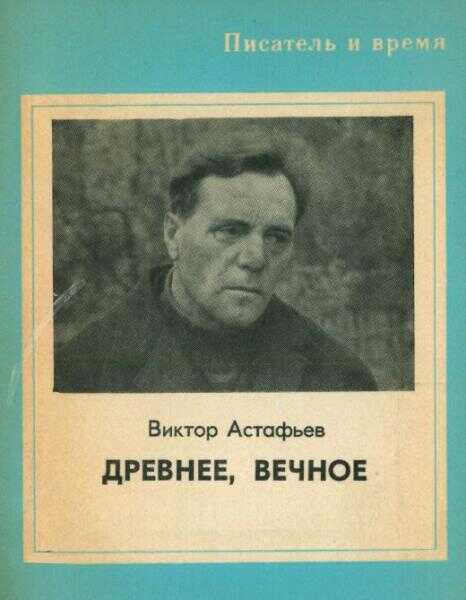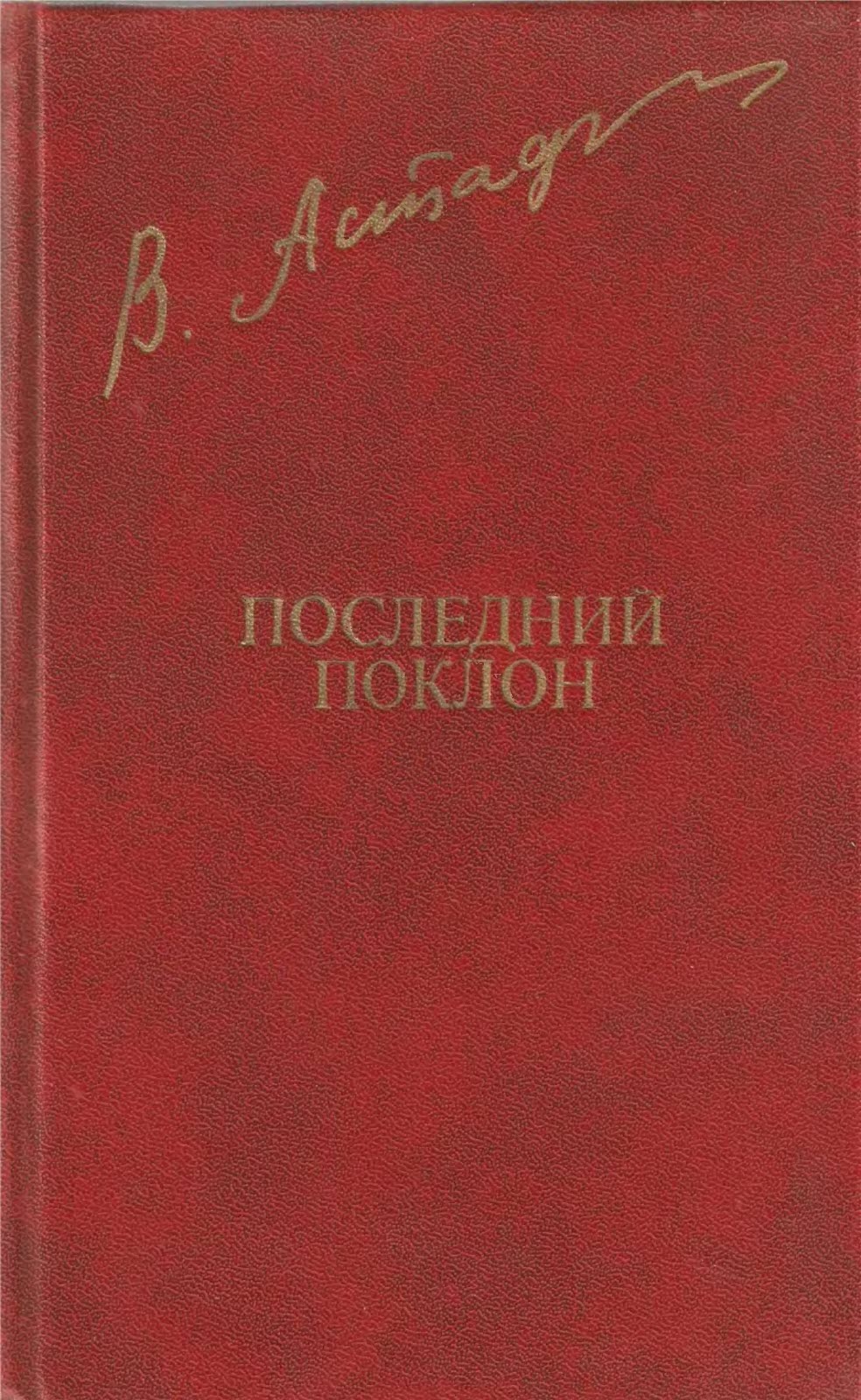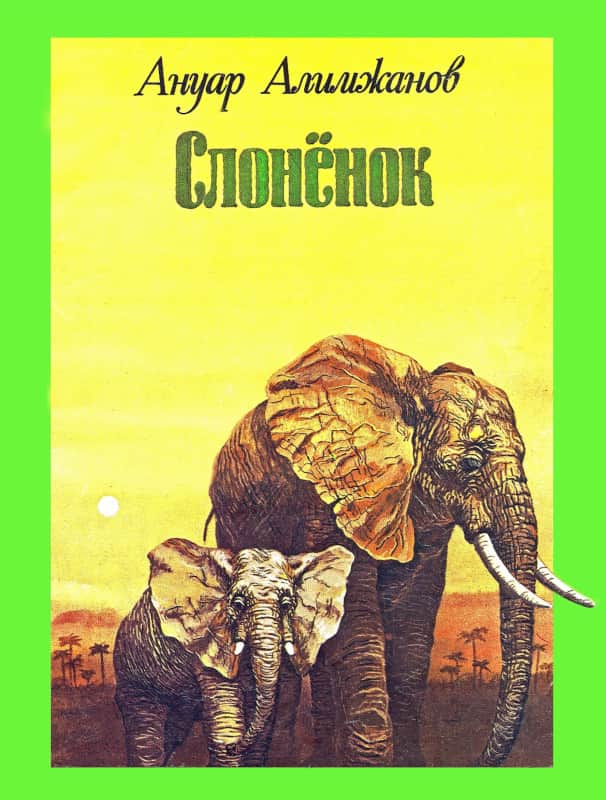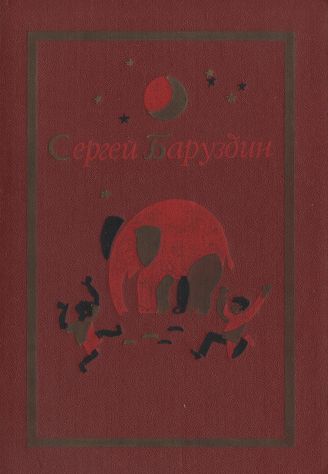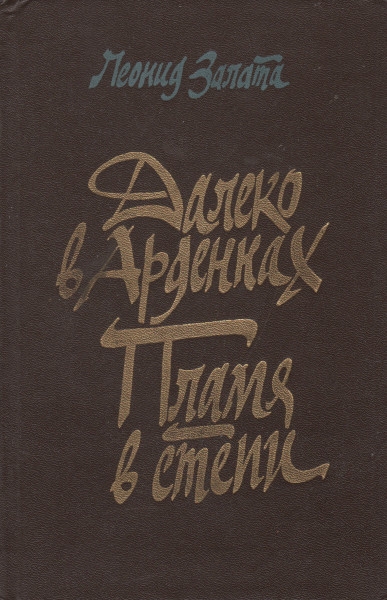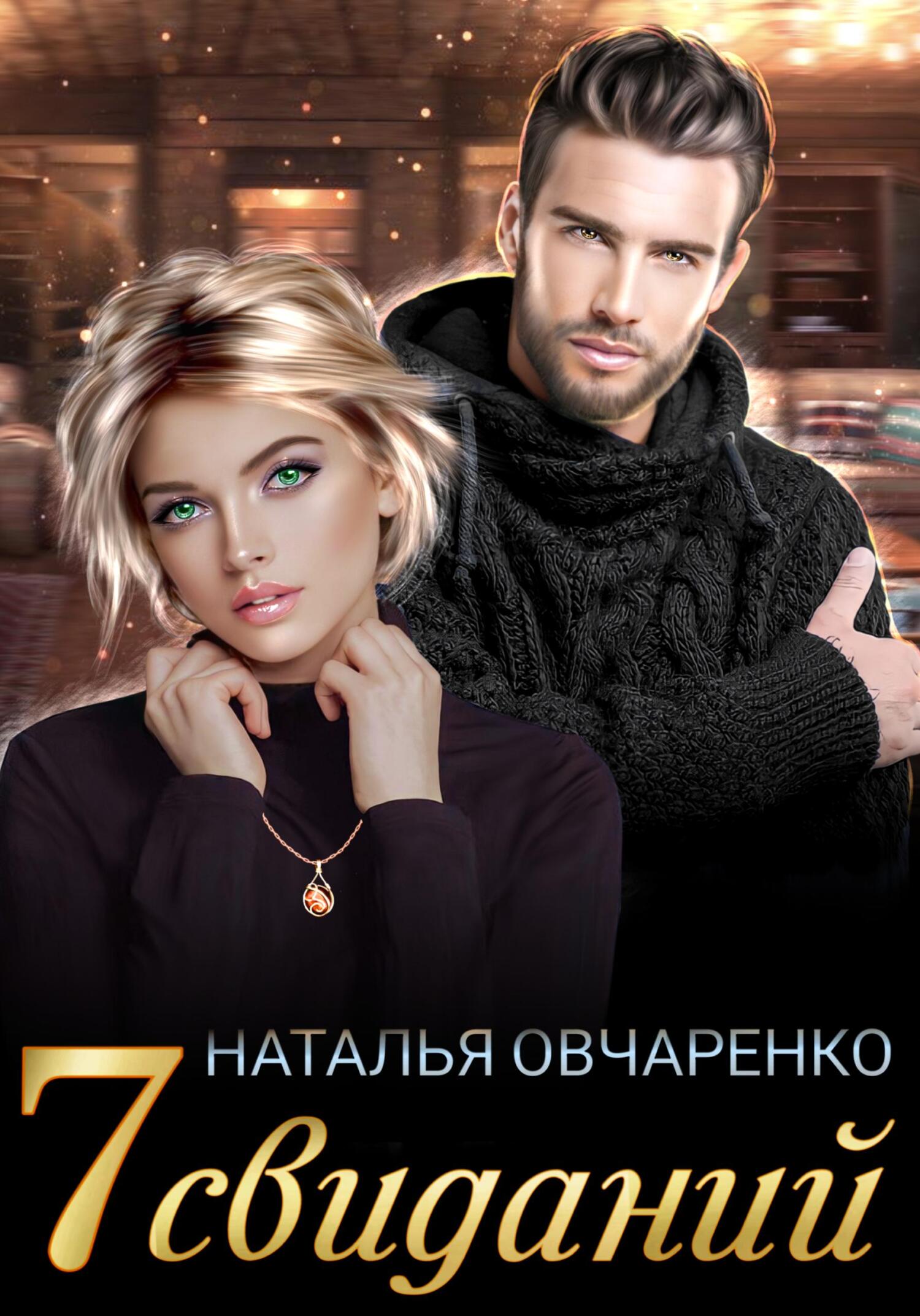Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Издательская аннотация отсутствует. _____ В повести рассказывается судьба мальчика, оставшегося сиротой. Повесть явилась своеобразной поэтической летописью жизни сибирской деревни с 20-х годов и до наших дней.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Петрович Астафьев»: