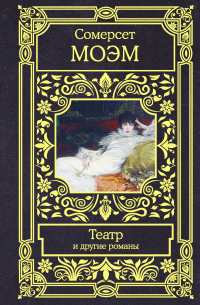Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Лучшие романы Сомерсета Моэма — в одном томе. Очень разные, но неизменно яркие и остроумные, полные глубокого психологизма и безукоризненного знания человеческой природы. В них писатель, не ставя диагнозов и не вынося приговоров, пишет о «хронике утраченного времени» и поднимает извечные темы: любовь и предательство, искусство и жизнь, свобода и зависимость, отношения мужчин и женщин, творцов и толпы…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Уильям Сомерсет Моэм»: