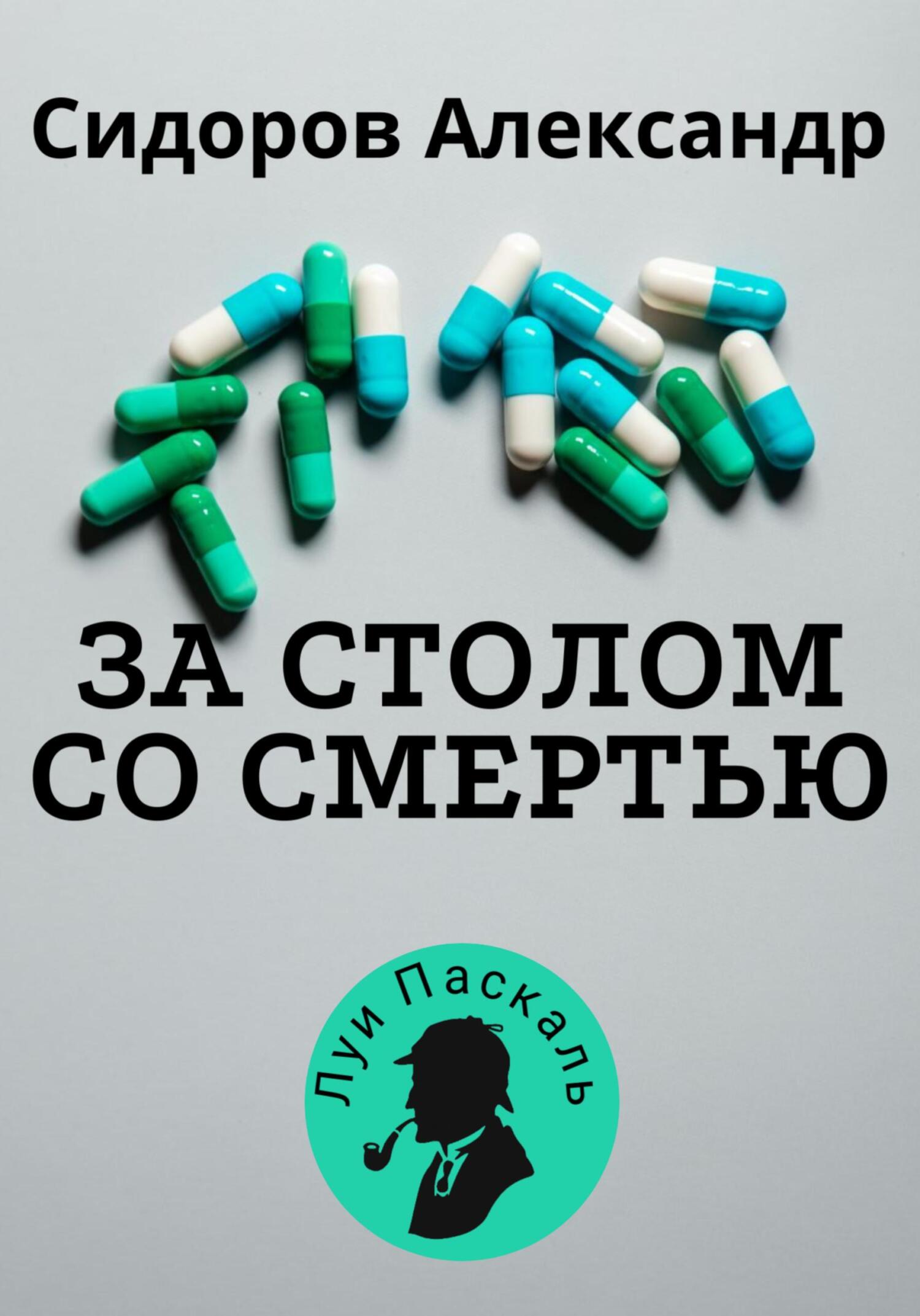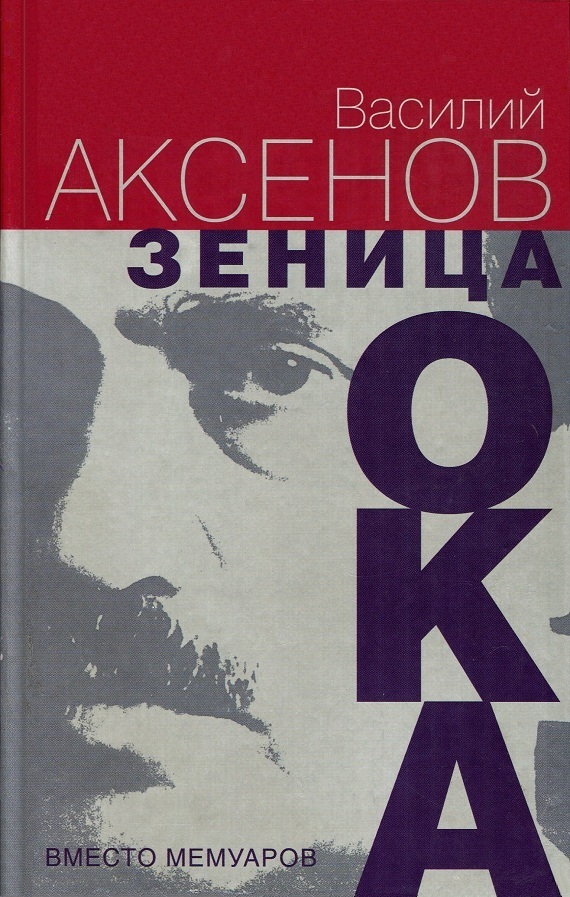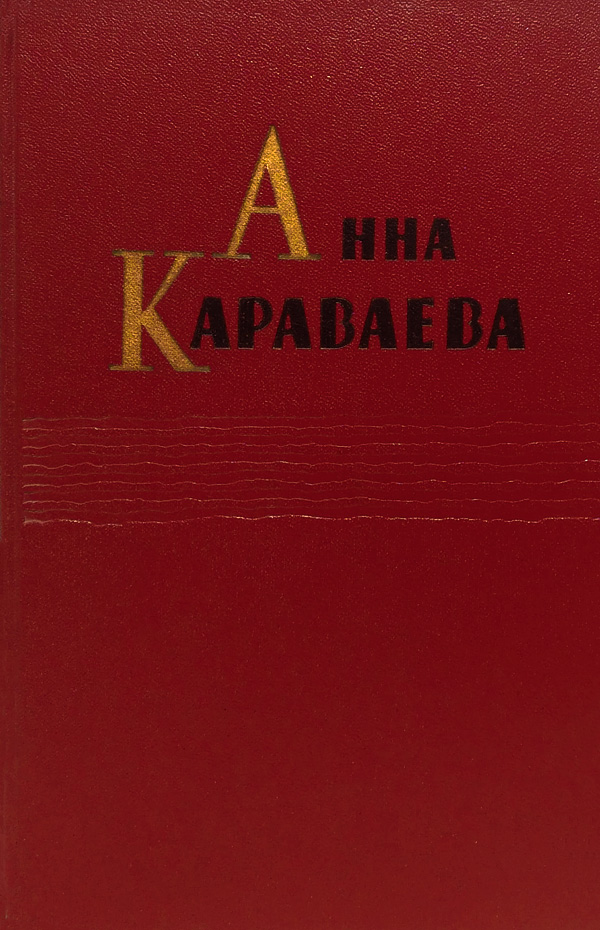Шрифт:
Закладка:
В новой книге Евгения Попова собраны рассказы последних лет, объединенные фигурами двух его любимых персонажей — литератора Гдова, за которым легко угадывается сам автор, и безработного Хабарова, «шестидесятника», который тщетно пытается вписаться в безумные обстоятельства нового века и тысячелетия, где человек человеку уже не друг, товарищ и брат, а вообще неизвестно кто. Фантасмагорические детали нынешнего бытия, которые и нарочно не придумаешь, уморительный «смех сквозь слезы», блестящие стилевые изыски в сочетании с жесткими, шокирующими реалиями повседневной жизни — все это делает новое лирико-сатирическое сочинение признанного мастера современной русской прозы весьма качественным чтением, способным привлечь внимание самых широких читательских кругов.