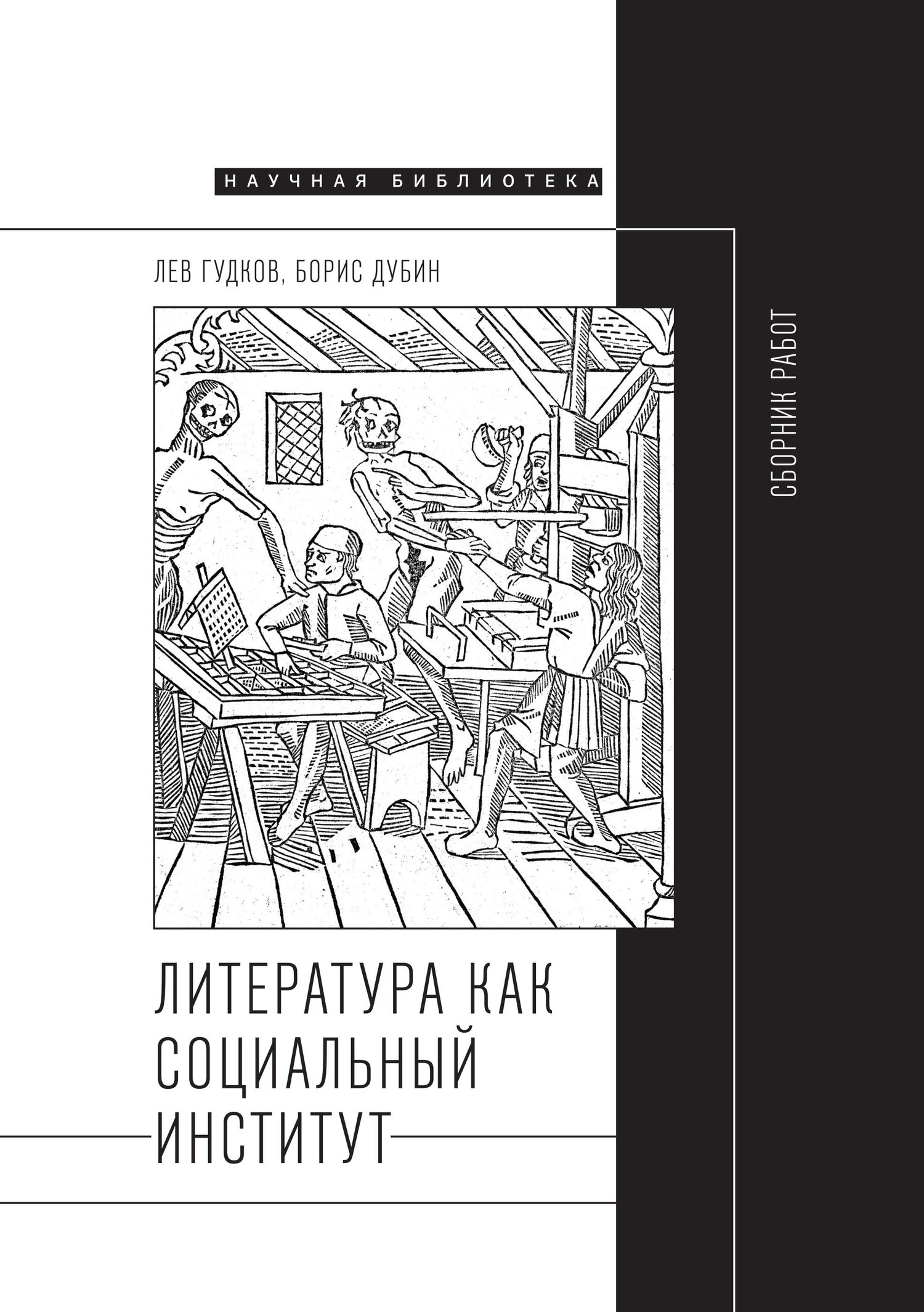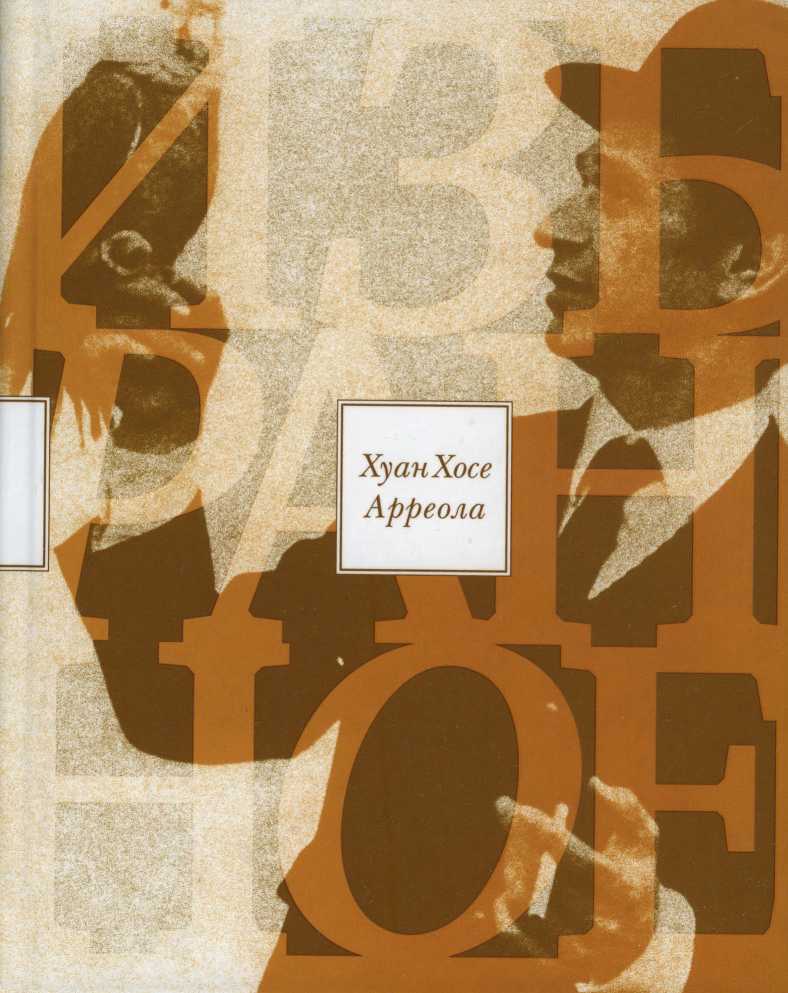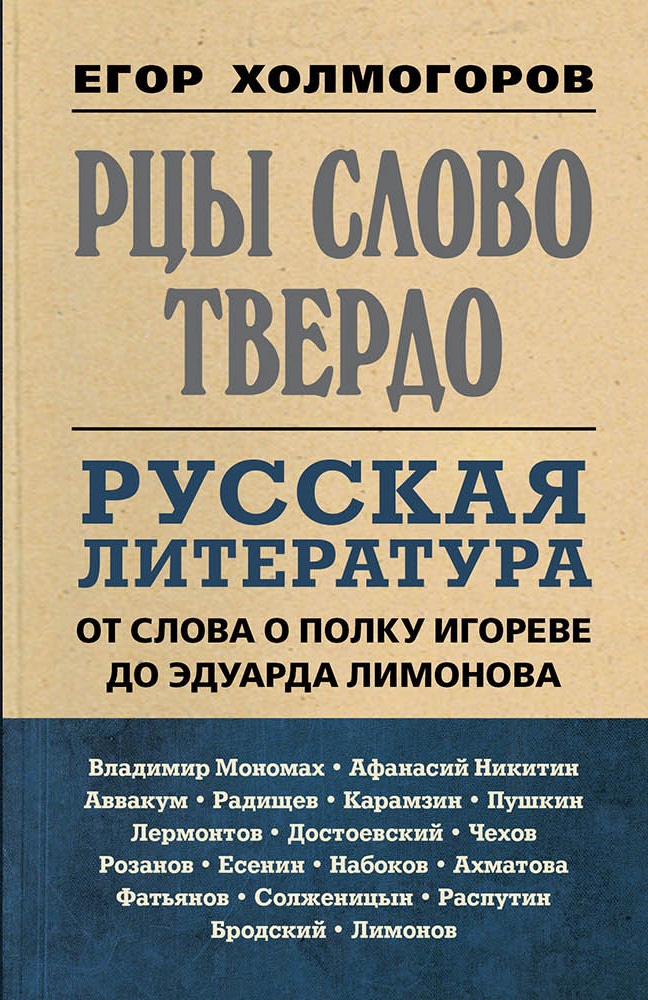Шрифт:
Закладка:
Логико-методологическому рассмотрению проблемы альтернативности исторического развития препятствовал недостаток соответствующего конкретного фактического материала, необходимого для теоретических обобщений. Причина понятна: долгое время никто не занимался его сбором, ибо побежденные и нереализованные альтернативы не интересовали ни историков, ни философов. На это обратил внимание В. И. Старцев в статье с красноречивым названием «Альтернатива: фантазии и реальность»[162].
Достигнутый уровень осмысления проблемы альтернативности в истории нашел отражение в ряде журнальных публикаций, однако дальнейшее изучение было осложнено бурными событиями последующих лет, сказавшимися на всех сферах жизни общества. Каждый день рождал новые альтернативы, что явно мешало отыскивать и пытаться осмыслить их в далеком и недавнем прошлом. Повторилась ситуация, некогда очень точно охарактеризованная князем П. А. Вяземским: «Жизнь сама по себе выходила скоропечатными листками. Типография была тут в стороне, была ни при чем»[163].
IIВ феврале 1993 года вышла в свет десятитысячным тиражом и в течение нескольких дней была распродана гениальная книга Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв»[164]. Я прочел ее залпом за два-три дня, после этого несколько раз перелистывал и был потрясен. «Дни наши сочтены не нами…» Тогда я еще не знал, что этой книге суждено стать научным завещанием Юрия Михайловича, скончавшегося 28 октября 1993 года. На фоне каждодневных изнурительных политических баталий, сиюминутных интересов и сетований о разрушении культуры и распаде «связи времен» мы, преодолевая языковый барьер, получили благодаря этой книге возможность говорить с прошлым и будущим, нам дали в руки путеводную нить, которая позволит не заблудиться в быстроменяющемся настоящем[165].
Итоговая книга Ю. М. Лотмана исследует различие между бинарными и тернарными структурами в момент «взрыва», культурного перелома. По динамике они отличаются друг от друга радикально. «Тернарная система стремится приспособить идеал к реальности, бинарная — осуществить на практике неосуществимый идеал» (С. 258). Тернарная культурная система старается сохранить ценности предшествующего периода: разрушение всей толщи культуры невозможно, происходит лишь относительное перемещение ценностей от центра системы к ее культурной периферии и наоборот. Бинарная же культурная система в момент культурного слома стремится полностью уничтожить все существовавшее ранее, включая всю толщу быта, как запятнанное неисправимыми пороками. Именно бинарные структуры характерны для русской культуры. Разговор на эту тему требует двойной перспективы. С одной стороны, на книге лежит печать недавнего прошлого, научным, культурным и психологическим документом которого она является; того времени, когда август 1991 года уже миновал, а октябрь 1993 — еще не наступил. С другой — «Культура и взрыв» может быть понята и прочитана как звено в цепи по меньшей мере двухвековых размышлений о месте России в истории мировой цивилизации, о прерывности и непрерывности, предсказуемости и непредсказуемости в судьбах общества и культуры.
«Переход от мышления, ориентированного на взрывы, к эволюционному сознанию приобретает сейчас особое значение, поскольку вся предшествующая привычная нам культура тяготела к полярности и максимализму. <…> Коренное изменение в отношениях Восточной и Западной Европы, происходящее на наших глазах, дает, может быть, возможность перейти на общеевропейскую тернарную систему и отказаться от идеала разрушать „старый мир до основанья, а затем“ на его развалинах строить новый. Пропустить эту возможность было бы исторической катастрофой» (С. 265, 270).
В моменты культурного слома резко возрастает роль случайности: результаты взрыва во многом неожиданны и непредсказуемы. Объясняя логику взрыва, Лотман восстанавливает случайность в ее правах: это настоящая антология (и апология) случая, нуждающегося после Гегеля в таком же «оправдании», как и добро. Размышления автора на эту тему органически связаны не только с его предшествующими и последующими работами, но и с западноевропейской философской и культурной традицией двух последних столетий.
Французские философы эпохи Просвещения стремились изгнать из истории идеи божественного Провидения, противопоставляя им мысль о том, что история — это игра случайностей. Последнее утверждение неоднократно использовалось Вольтером, Гельвецием и Гольбахом в качестве остроумного полемического приема, позволяющего при помощи ярких и хорошо запоминающихся примеров демонстрировать читателям абсурдность религиозного фатализма. «Оракулы веков» в какой-то степени неожиданно для самих себя добились того, что в менталитете эпохи Просвещения прочно укоренилась мысль о жизни человека как игре мелких и мельчайших случайностей: «часто незначительные причины определяют поведение всей нашей жизни и течение всех наших дней» (Гельвеций).
Впоследствии Гегель весьма иронично отзовется об «арабескной манере излагать историю», суть которой заключается в остроумной, но поверхностной трактовке широких и глубоко захватывающих исторических событий как следствий ничтожных случайностей, дошедших до нас лишь благодаря анекдоту; таким образом «из ничтожного зыбкого стебля вырастает какой-либо большой образ». Гегель подверг критике подобный подход, но был вынужден констатировать его исключительно широкое распространение. «В истории стало обычным острое словцо, что из малых причин происходят большие действия». В противовес этому подходу к истории Гегель выдвинул и обосновал собственный: «От случайности мы должны отказаться при вступлении в область философии». Гегелевская концепция широко распространилась в кругу специалистов и была многими из них безоговорочно принята, сыграв исключительную роль в судьбах истории философии и философии истории: она стала существенным компонентом всемирного историко-философского процесса, теоретического познания и научной картины мира.
С историей культуры ситуация была несколько иной. Благодаря незаурядному таланту Вольтера, Гельвеция, Гольбаха и других философов XVIII века яркий образ истории как игры случайностей стал достоянием европейской культуры — весьма существенной характеристикой склада ума и системы ценностей европейского образованного общества накануне революции. Французские энциклопедисты не только стали провозвестниками революции, но и произвели настоящую революцию в умах, утвердив в стиле мышления эпохи идею о фундаментальном значении случайности в истории: несколько поколений «с томленьем упованья» станут ждать счастливую случайность, для того