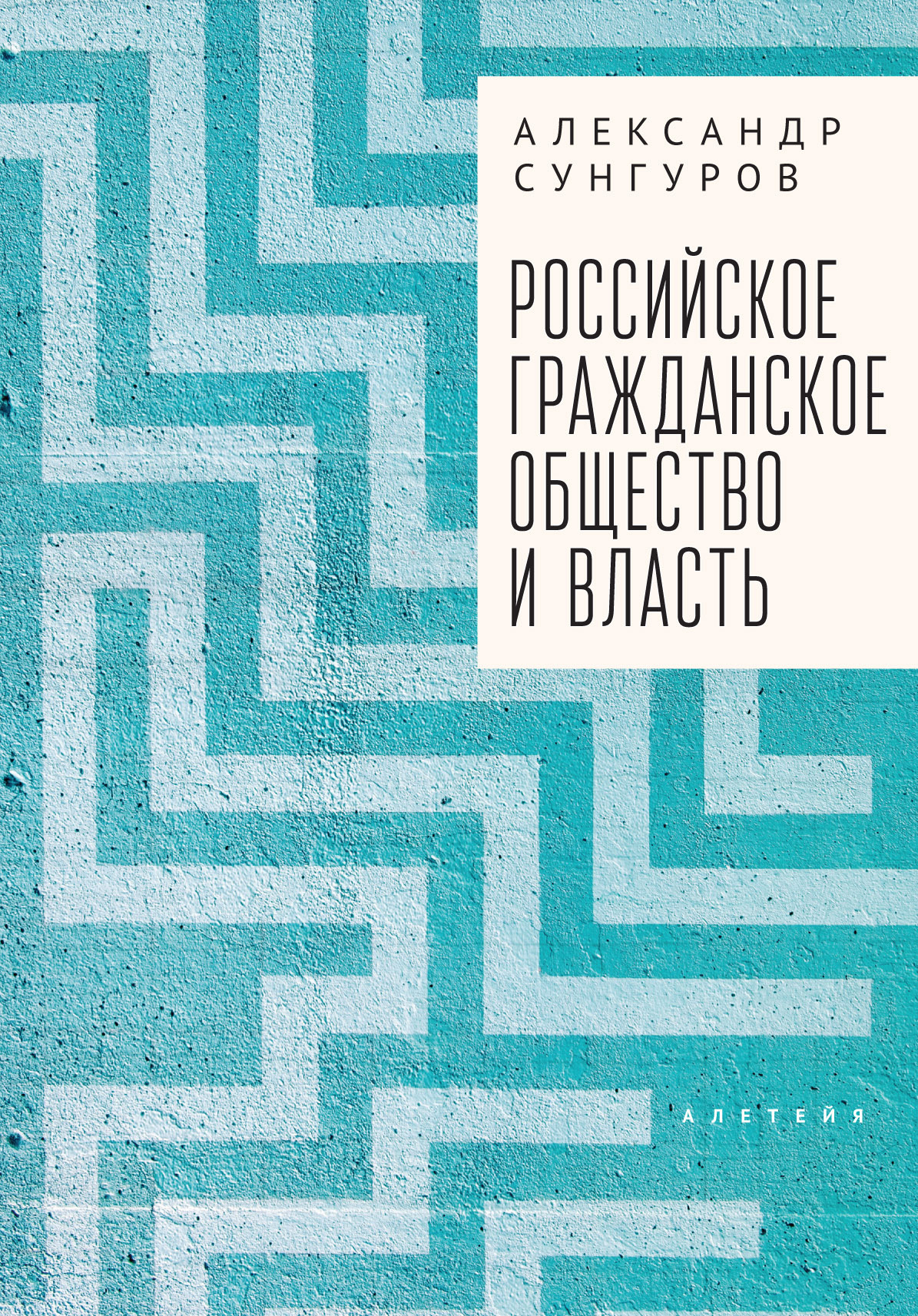Шрифт:
Закладка:
Между высоким искусством и развлечением издавна высится непреодолимая стена. Дух страсти устремлен в потустороннее. Возвышенное – его стезя. Перед его строгим взором радость, смех и простота развлечения – словно попрание святынь.Но можем ли мы сегодня с уверенностью заявить, что стена по-прежнему незыблема и находится в точности там, где возвели ее наши предки? Не следует ли по примеру восточных мастеров сатори освободить искусство и развлечение от религиозной метафизики, которую в них втолковал дух страсти? Не следует ли попытаться постичь искусство не как страдание, а как смех, чтобы тем самым наконец избавить его от морали прежних эпох?В своем новом эссе Бён-Чхоль Хан обращается к деконструкции современного искусства и индустрии развлечений, анализируя такие феномены, как смех, радость и развлечения, которые стали императивами XXI века.