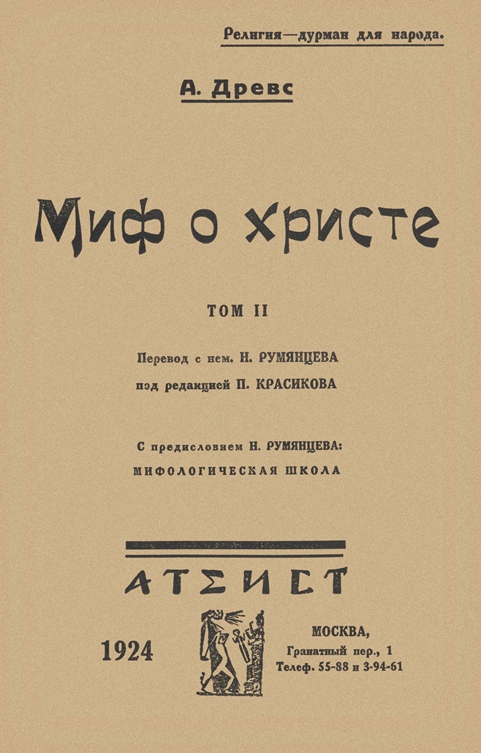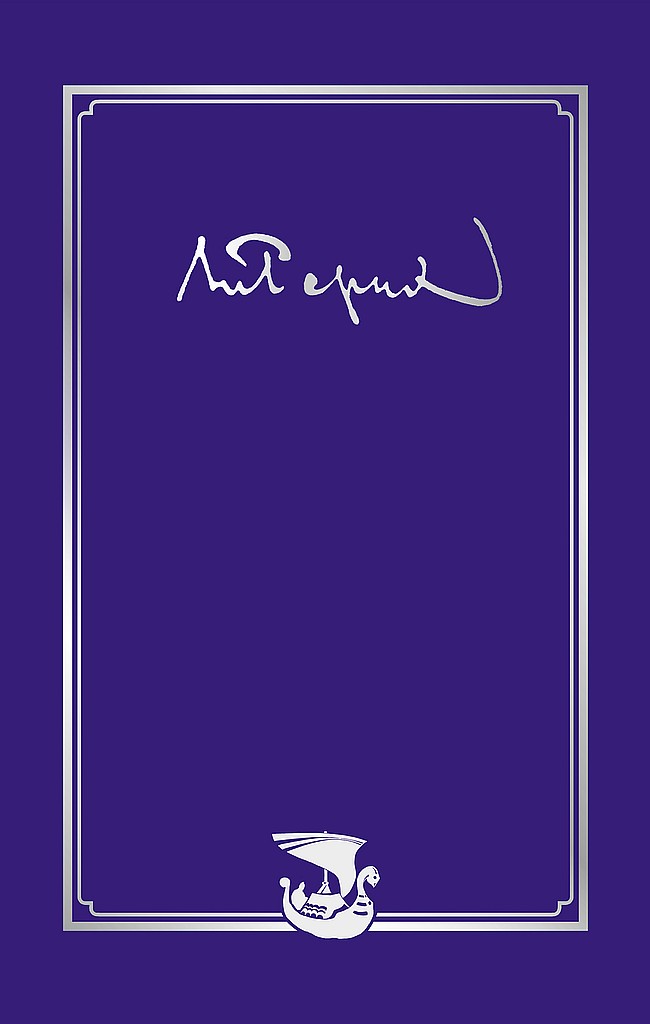Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В этот сборник вошли произведения как раннего периода творчества Альбера Камю, так и его яркого расцвета одновременно как писателя и философа. От ранних эссе «молодого бунтаря», в которых философское и литературное начала переплетаются самым естественным и изысканным образом, а Камю еще только нащупывает понемногу свой уникальный «творческий почерк», – к «Мифу о Сизифе», «Постороннему» и «Калигуле». К вечно актуальным, поистине революционным произведениям, перевернувшим сам образ мышления интеллектуальной молодежи XX века и ставшим знаменем не только экзистенциализма, но и нонконформизма в целом. Также в издание вошли записные книжки Альбера Камю, датированные маем 1935-го – февралем 1942 года.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Альбер Камю»: