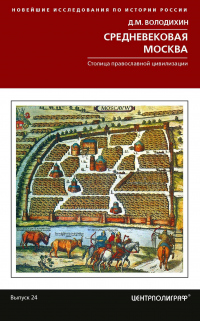Шрифт:
Закладка:
Дмитрий Михайлович Урнов (род. в 1936 г., Москва), литератор, выпускник Московского Университета, доктор филологических наук, профессор.«До чего же летуча атмосфера того или иного времени и как трудно удержать в памяти характер эпохи, восстанавливая, а не придумывая пережитое» – таков мотив двухтомных воспоминаний протяжённостью с конца 1930-х до 2020-х годов нашего времени. Автор, биограф писателей и хроникер своего увлечения конным спортом, известен книгой о Даниеле Дефо в серии ЖЗЛ, повестью о Томасе Пейне в серии «Пламенные революционеры» и такими популярными очерковыми книгами, как «По словам лошади» и на «На благо лошадей».Первый том воспоминаний содержит «послужной список», включающий обучение в Московском Государственном Университете им. М. В. Ломоносова, сотрудничество в Институте мировой литературы им. А. М. Горького, участие в деятельности Союза советских писателей, заведование кафедрой литературы в Московском Государственном Институте международных отношений и профессуру в Америке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.