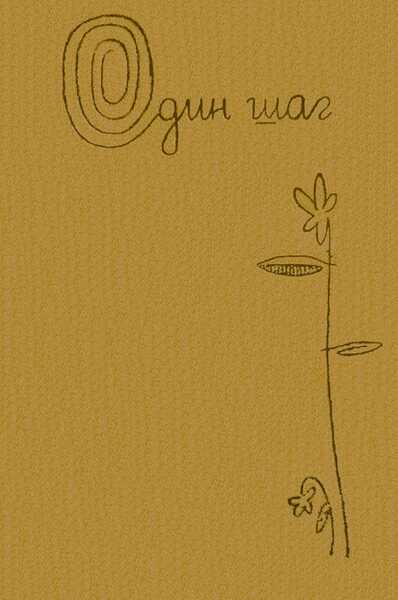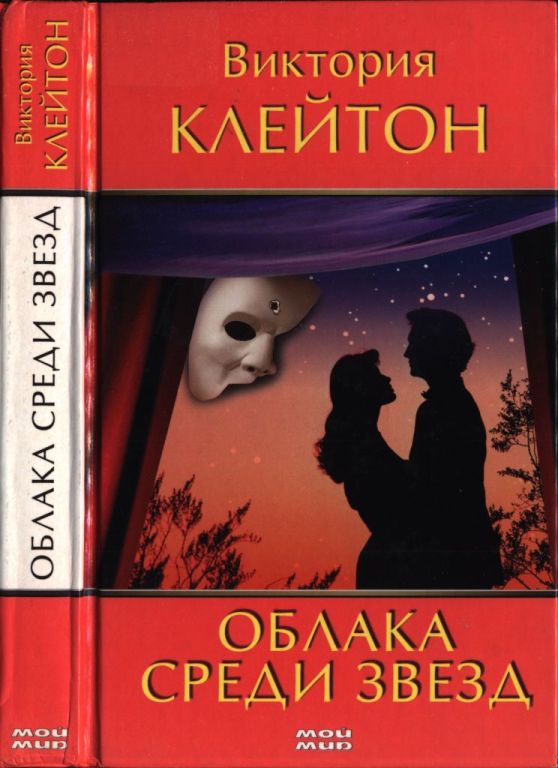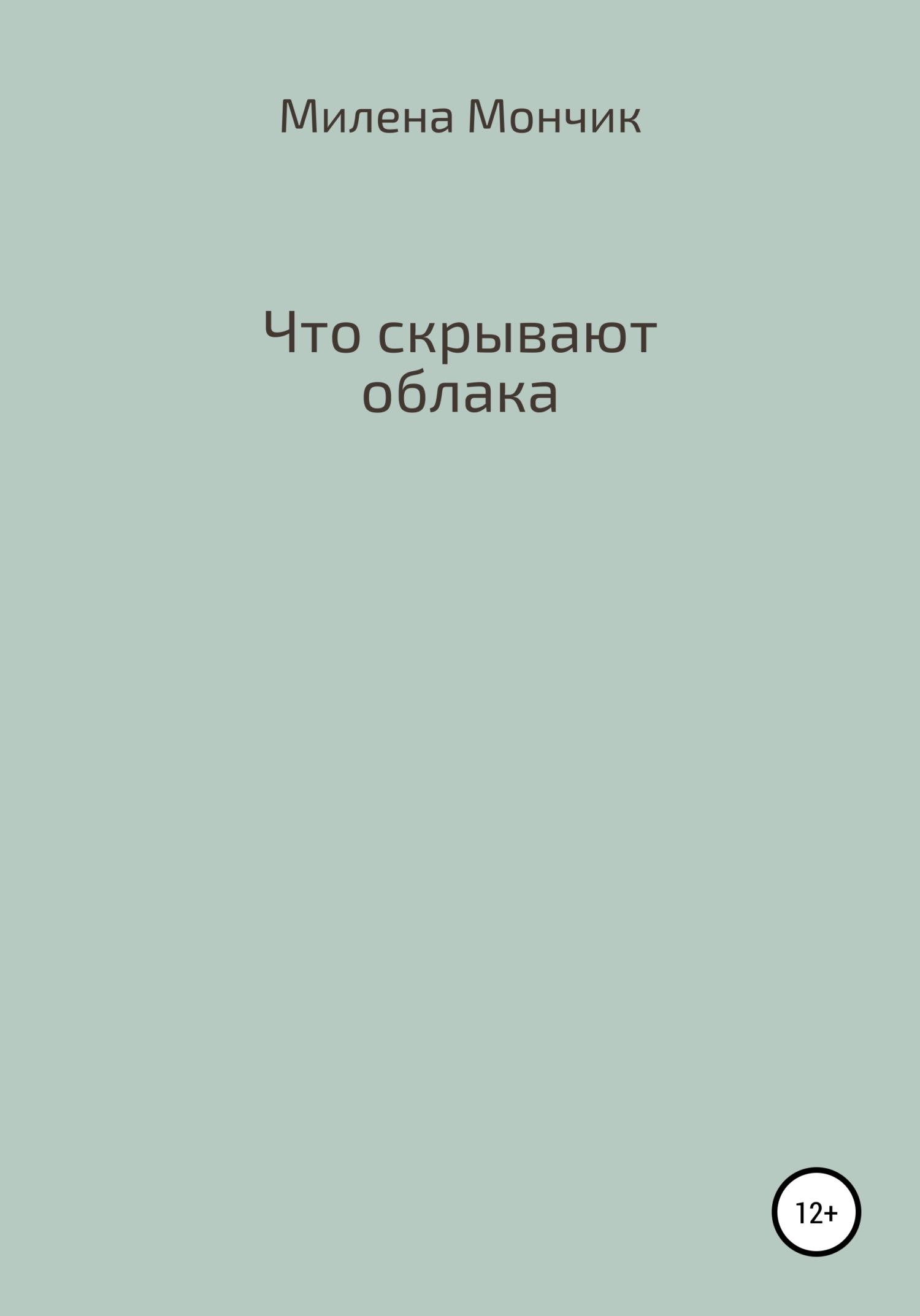Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Содержание: 72-15 задерживается Кордон Чистые Дубравы Закон Ома Один шаг Три Николая и Ванька Повесть о забытом музыканте
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Георгий Васильевич Метельский»: