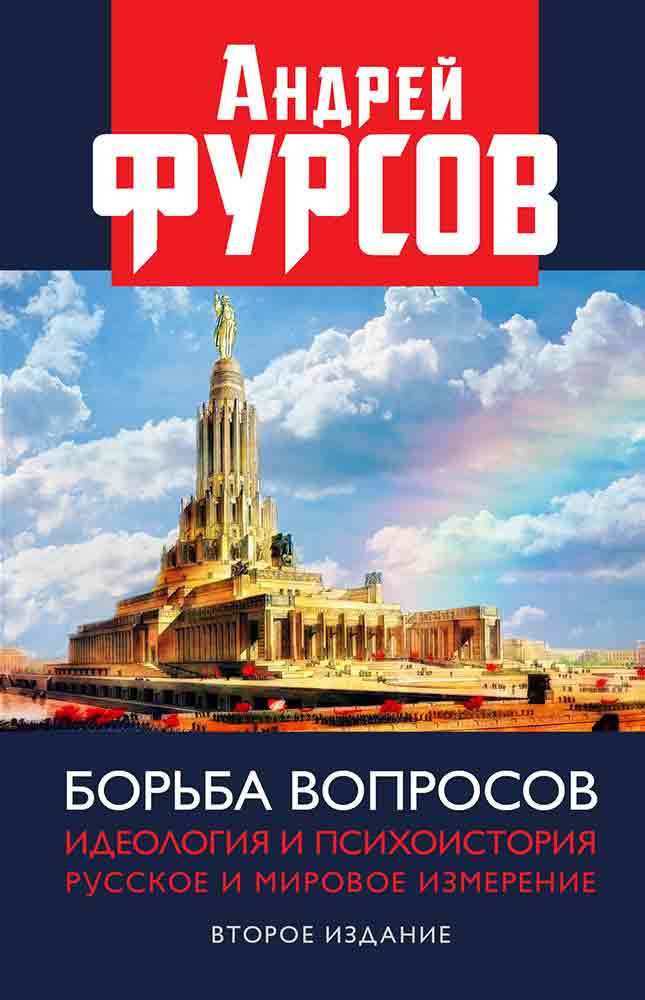Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В новом романе Софии Синицкой, финалиста литературных премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна», главным героем повествования становится город Выборг – от времён основания шведами до наших дней. Карелы, новгородцы, шведы, финны – всех повидала эта земля, и все оставили на ней свой след. Автор разворачивает перед читателем увлекательное историческое полотно, настоящую сагу, где реальные события естественным образом сочетаются с чудесами, сплетаясь в итоге в невероятную хронику, где мирно соседствуют документальная летопись и метафизика.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «София Валентиновна Синицкая»: