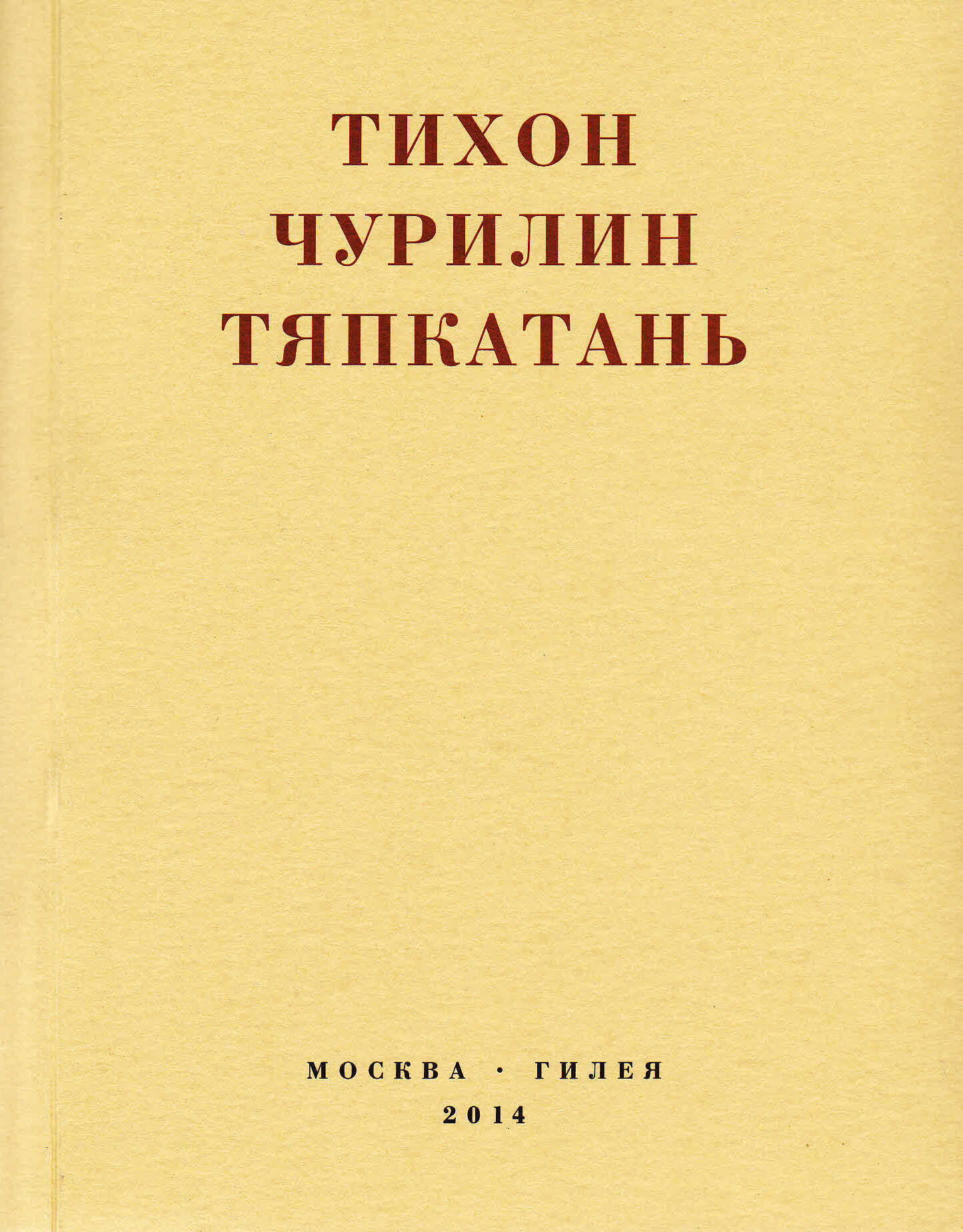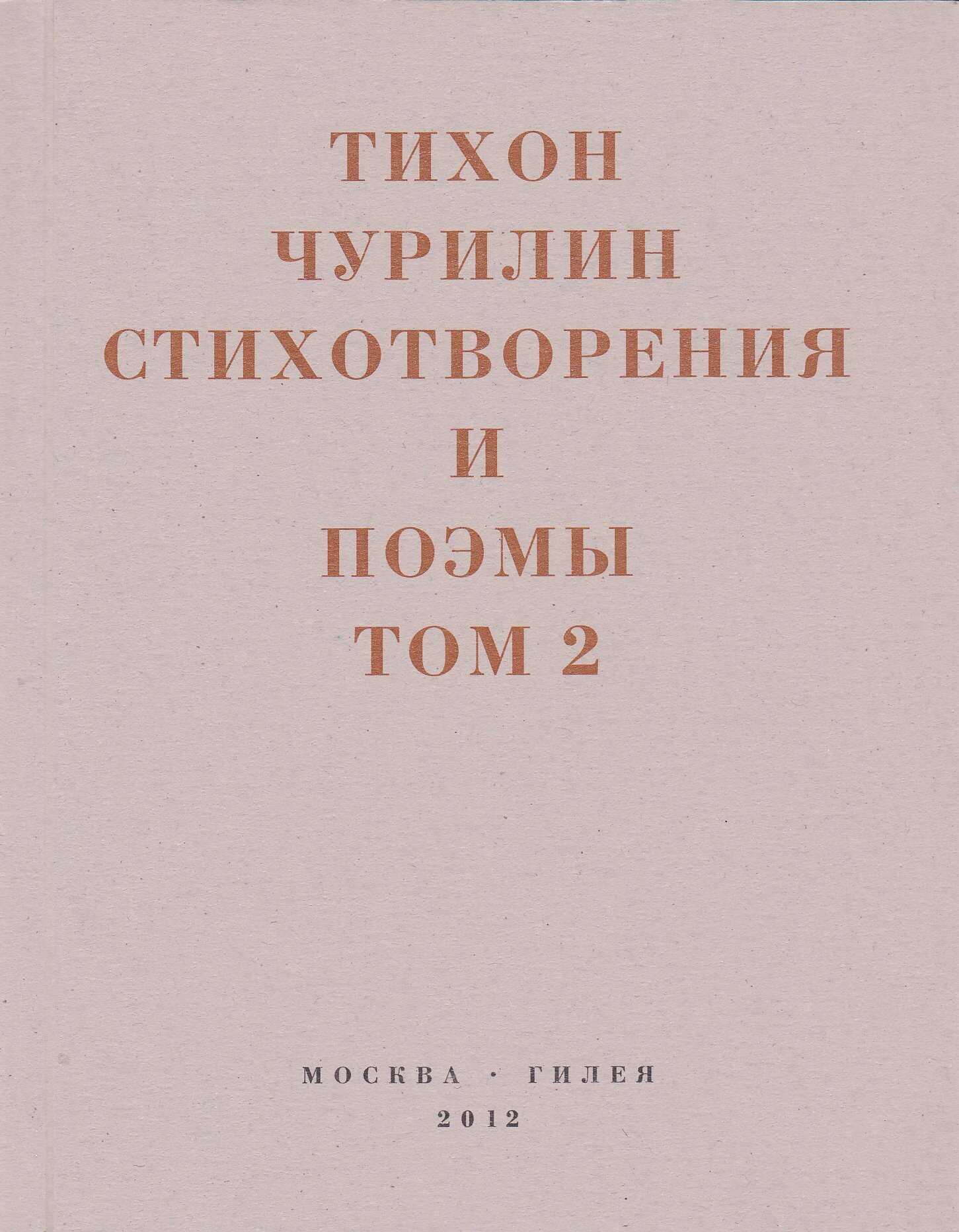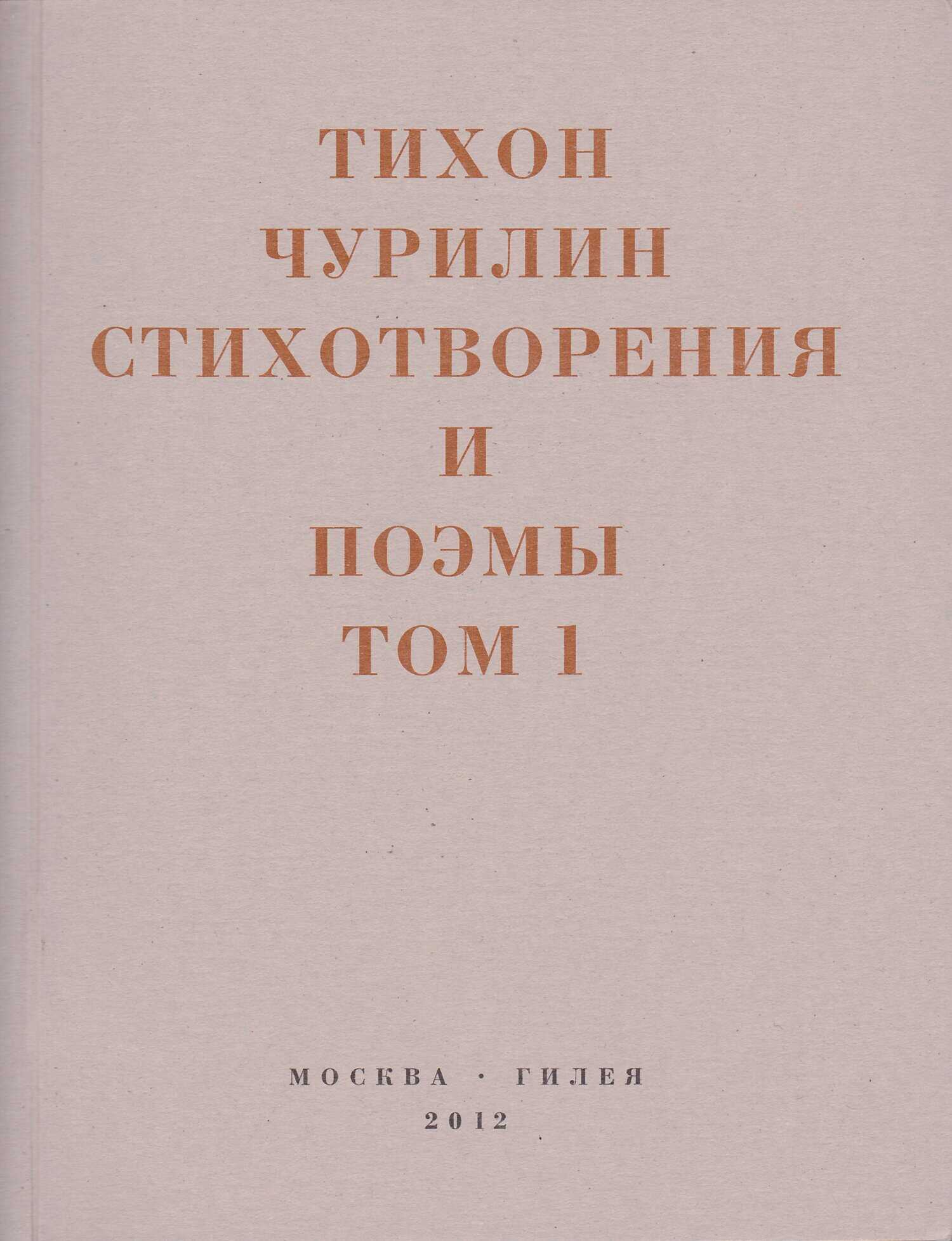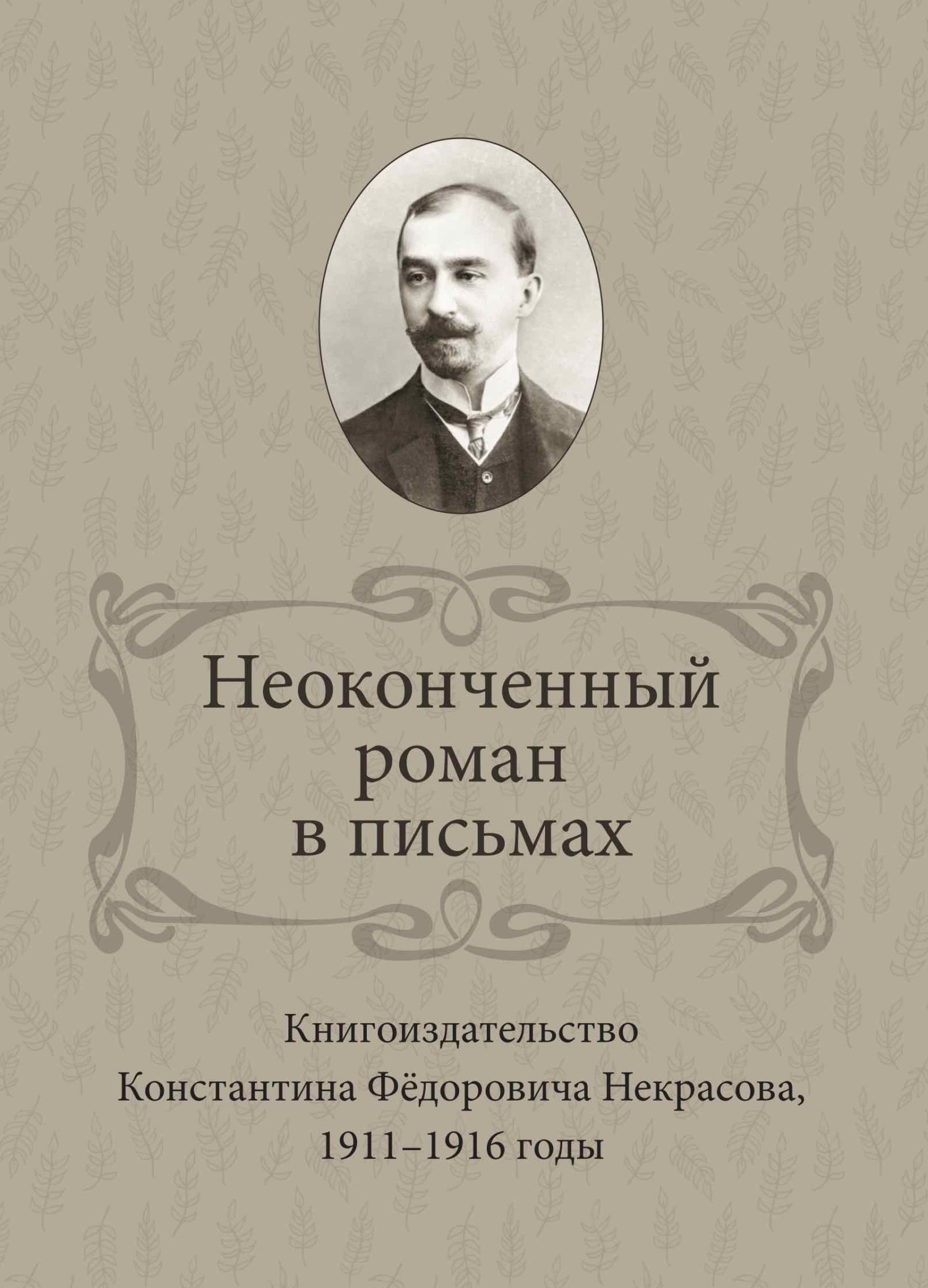Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Первое в России и за ее пределами собрание поэтических текстов футуриста, Председателя Земного Шара и романиста Тихона Чурилина (1885-1946). Собрание делится на 2 неравные части – изданное при его жизни (меньшая) и неизданное (большая). В приложениях – биографические материалы Чурилина, коллективное воззвание Молодых Окраинных Мозгопашцев, а также цикл эссе Льва Аренса под общим названием "Слово о полку будетлянском" (о В. Хлебникове, Г. Петникове, Т. Чурилине, Божидаре, Н. Асееве, Б. Пастернаке, В. Каменском).В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Тихон Васильевич Чурилин»: