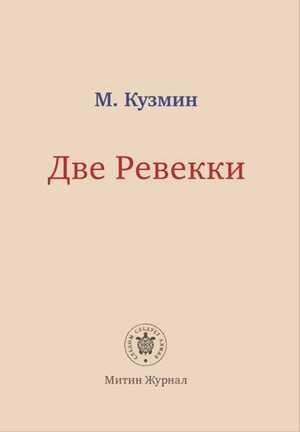Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перед вами неизвестная повесть Михаила Кузмина (1872–1936) — поэта, прозаика, драматурга, композитора, критика, переводчика. Он был известен и популярен при жизни, основательно забыт на протяжении нескольких десятилетий после смерти (главным образом, из-за своей несозвучности «генеральной линии» советской культуры), затем — в годы перестройки и слома советского общества — интерес, не только читательский, но и научный, к личности и сочинениям М. Кузмина вернулся и, будем надеяться, никогда уже не погаснет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Алексеевич Кузмин»: