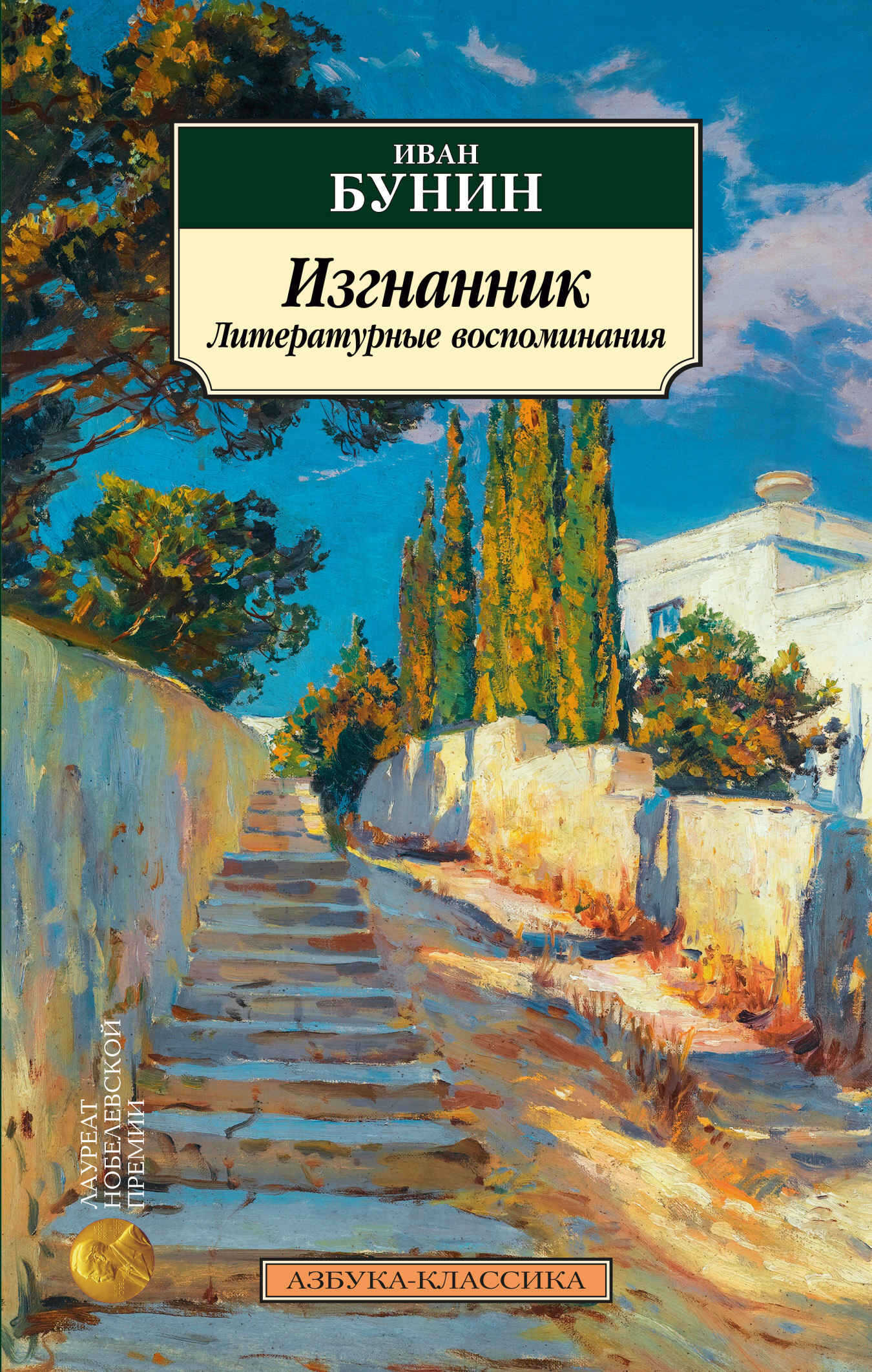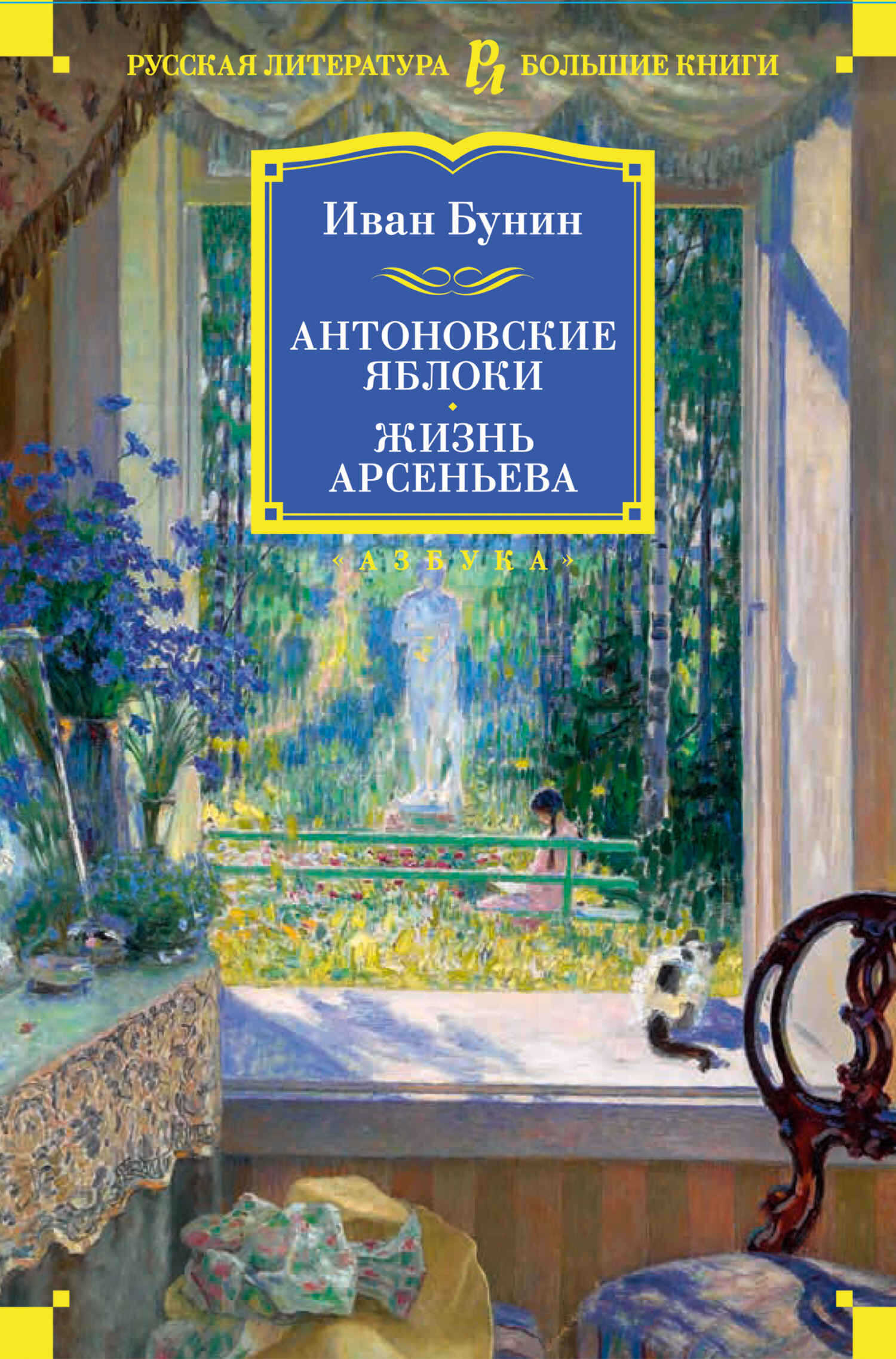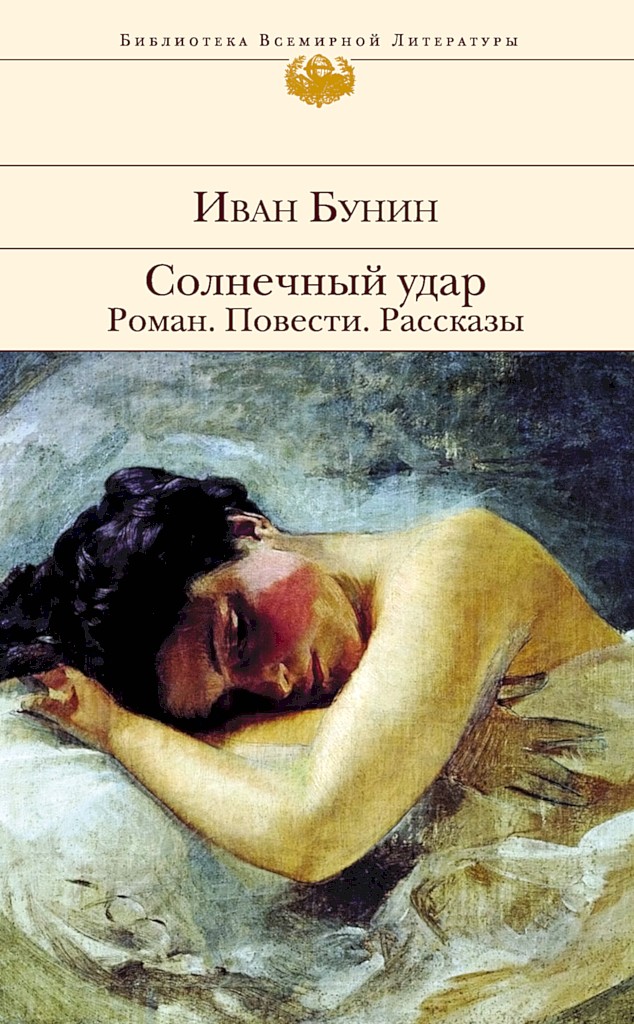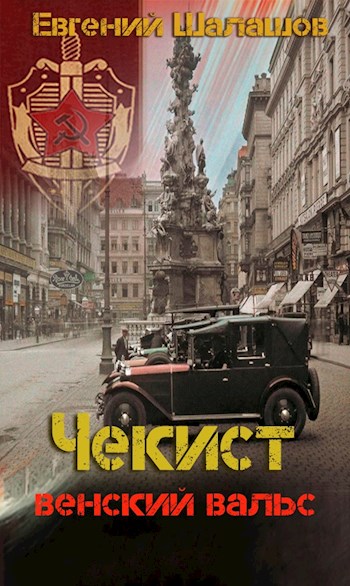Шрифт:
Закладка:
К. И. Чуковский писал о Бунине: «Он – поэт, и проза его поэтична. В ней есть ритм – неуловимый, но явственный».Ранняя проза Бунина, как и его стихи, наполнена тончайшим лиризмом – здесь выразительно все: бытовые детали, лица и характеры героев, особая тишина родных краев и красота нетронутой природы. Автор размышляет о прошлом и будущем, о судьбах людей, о развитии мира и надеется, что однажды все люди станут счастливыми, а стремление к прекрасному наполнит их жизни настоящими радостями.В издание вошли произведения «Танька», «На даче», «У истока дней», «Перевал», «На хуторе», «На край света», «В поле» и другие, написанные между 1889 и 1907 годами – в тот период, когда творчество Ивана Алексеевича Бунина уверенно стремится в полосу своего расцвета и возбуждает интерес у читающей публики и критиков.