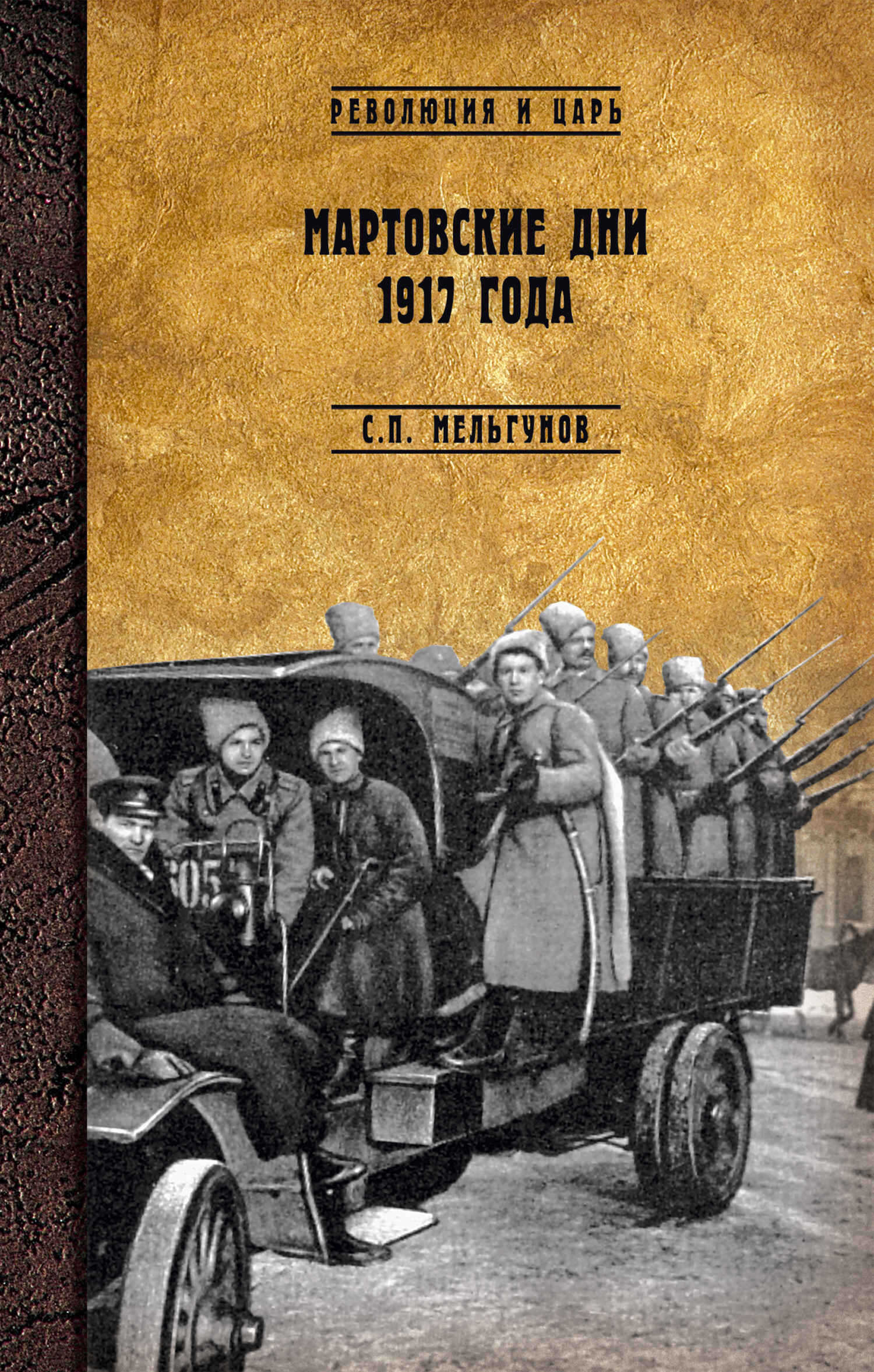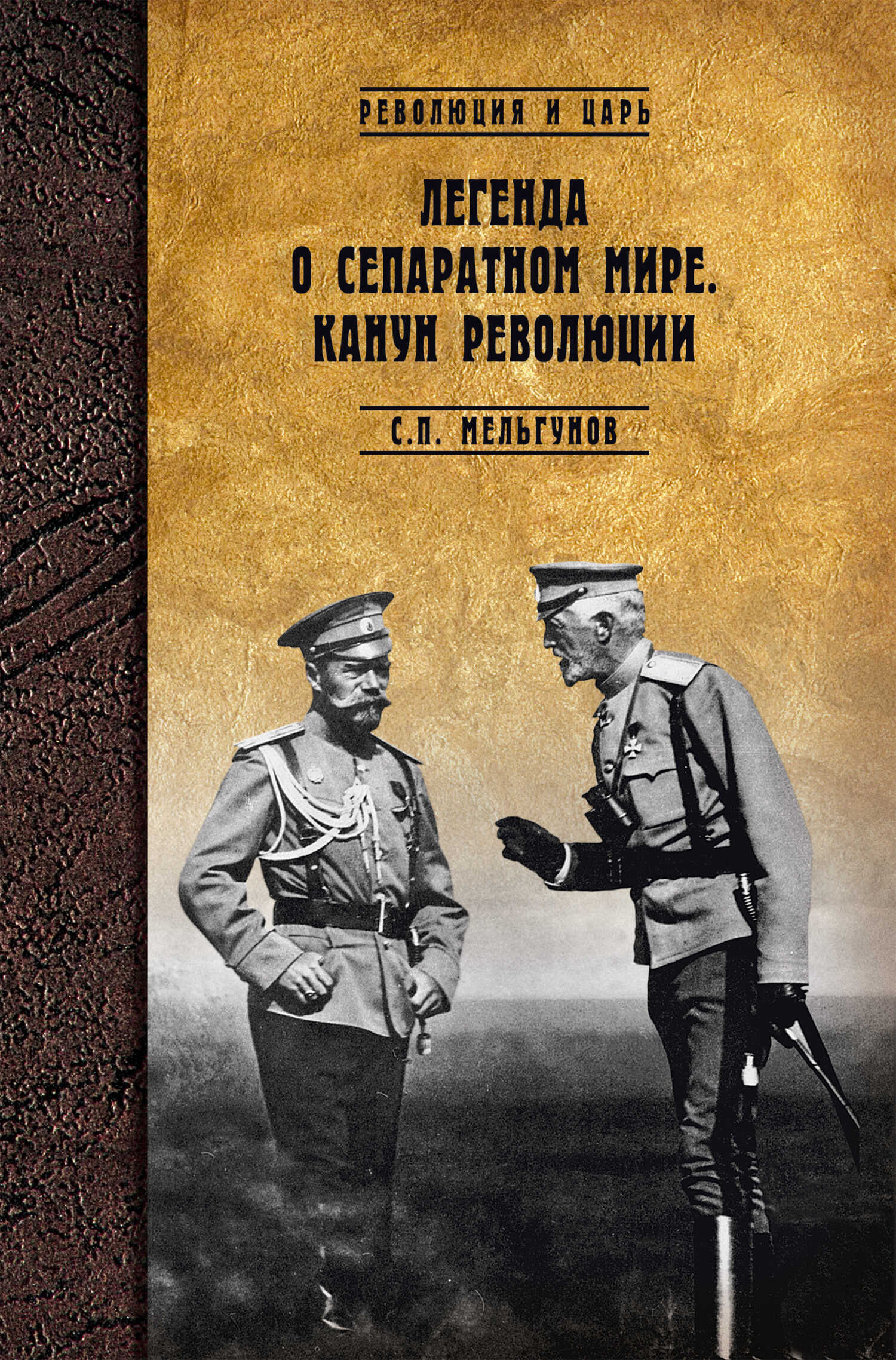Шрифт:
Закладка:
Издательство «Вече» впервые в России представляет читателям увлекательную трилогию «Революция и царь» Сергея Петровича Мельгунова, посвященную сложнейшим коллизиям, которые привели к Февральским событиям, Октябрьскому перевороту и установлению в стране «красной диктатуры». В трилогию входят книги «Легенда о сепаратном мире. Канун революции», «Мартовские дни 1917 года», «Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки». Вторую книгу – труд «Мартовские дни 1917 года» – автор закончил еще в годы Второй мировой войны. Часть книги была опубликована в 1950—1954 гг. в эмигрантской газете «Возрождение», а полностью она увидела свет в Париже в 1961 г. Как и другие труды Мельгунова, эта книга поражает прежде всего скрупулезным анализом самого широкого круга источников, которые были доступны историку. Восстанавливая хронику Февральской революции буквально по часам, Мельгунов не только поднял весь пласт опубликованных документов и воспоминаний, но и лично опросил десятки участников событий, начав эту работу еще в России (до высылки в 1922 г.) и продолжив в эмиграции. В итоге получилось увлекательное исследование, в котором не только бурлит «живая хроника» мартовских дней, но и рассеиваются многочисленные мифы, вольно или невольно созданные участниками ушедших событий. Книга издана в авторской редакции с сохранением стилистики, сокращений и особенностей пунктуации оригинала.