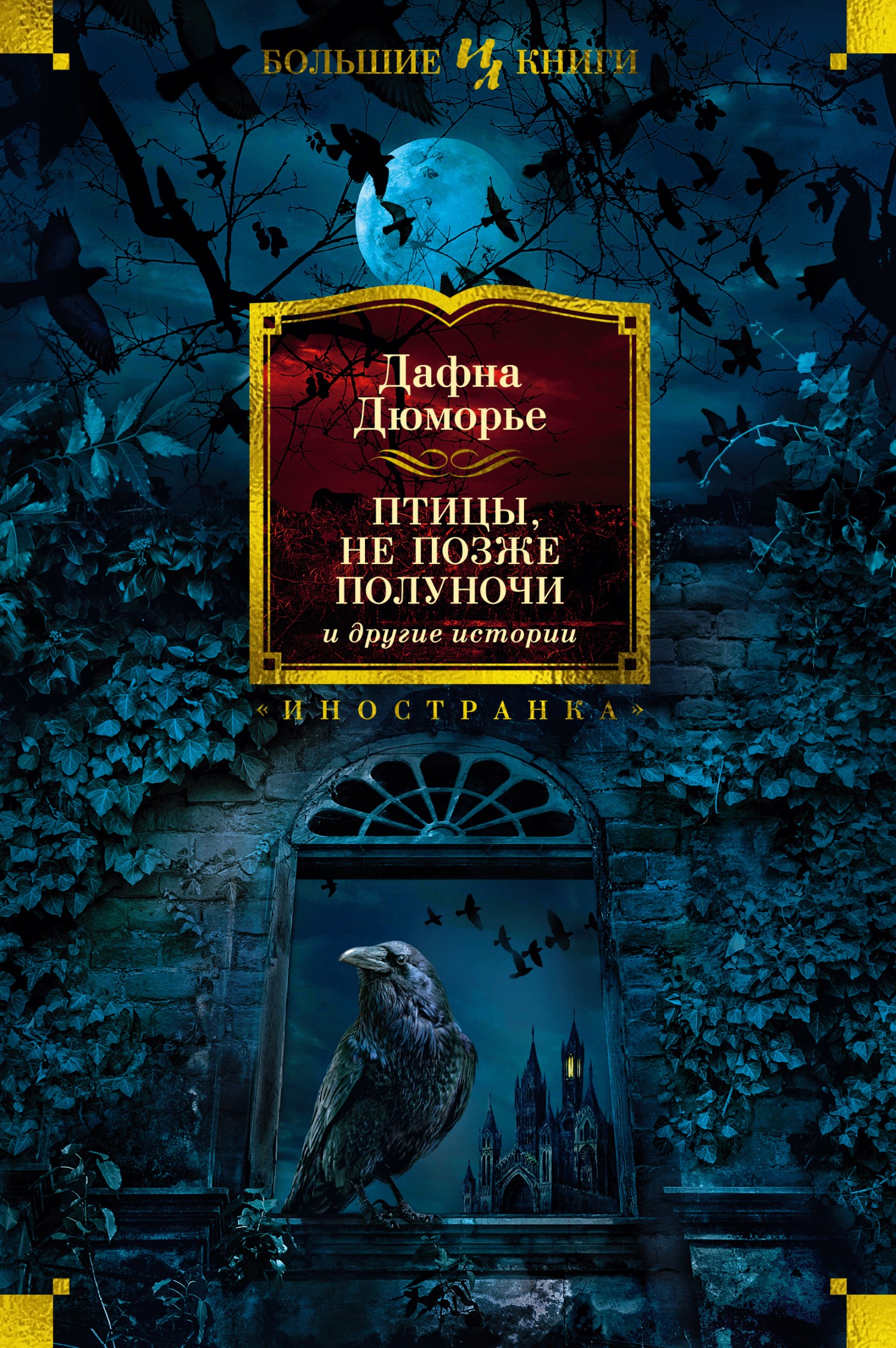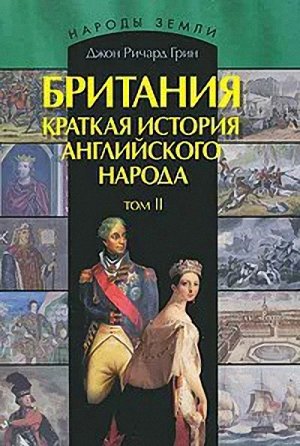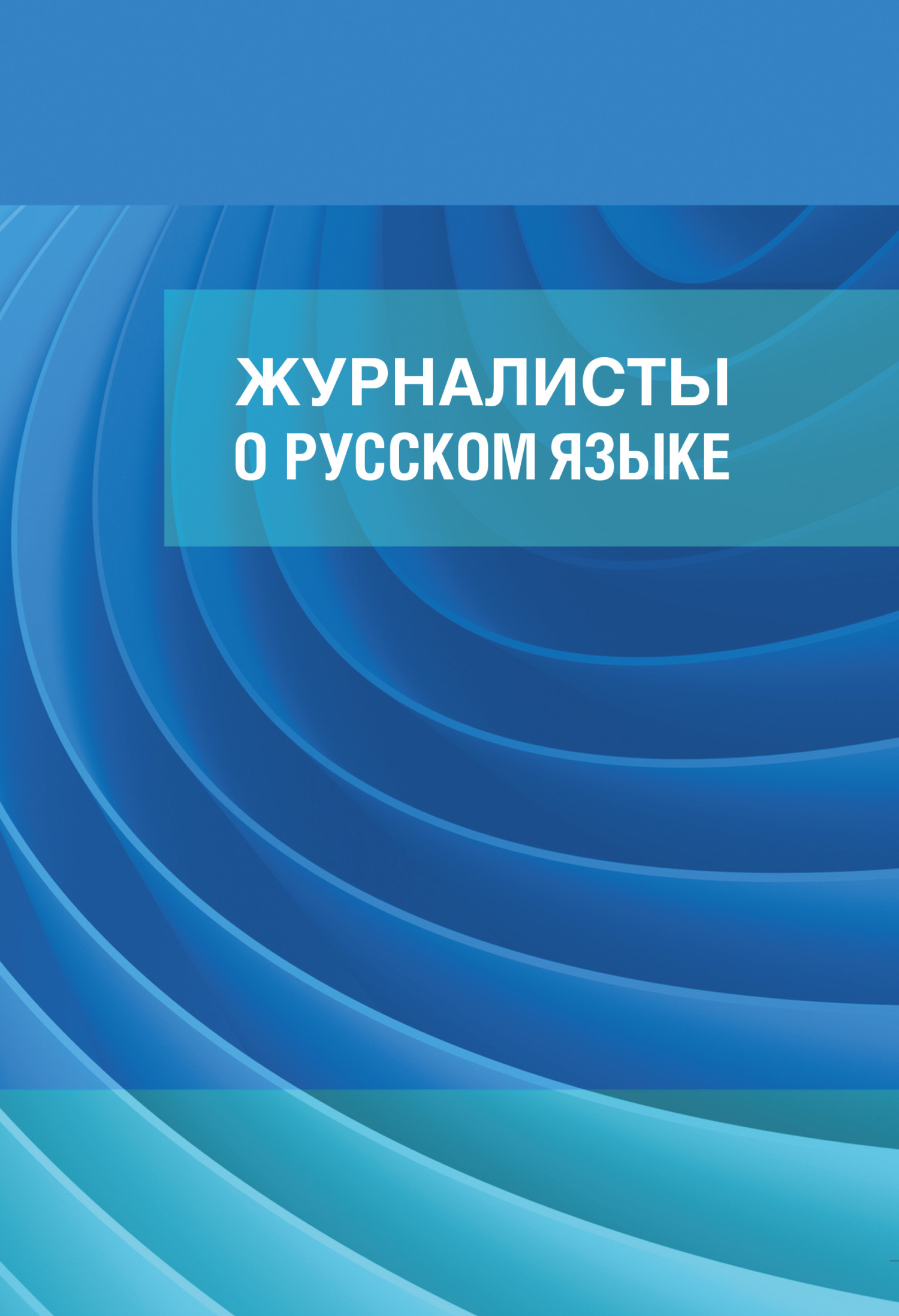Шрифт:
Закладка:
Произведения английской писательницы Дафны Дюморье (1907–1989) переведены на десятки языков и пользуются популярностью у читателей во всем мире. Первый большой успех принес автору роман «Трактир „Ямайка“». Сегодня эта книга считается классикой готической традиции в литературе XX века, а героиню Мэри Йеллан сравнивают с Джейн Эйр. Впечатления от любимого Корнуолла, где Дафна Дюморье провела большую часть жизни, во многом определили завораживающую атмосферу «Ямайки». Сюжет романа «Моя кузина Рейчел» также разворачивается на фоне таинственных пейзажей Корнуолла. По признанию критиков, эта книга не уступает прославленной «Ребекке», а в чем-то и превосходит ее. Главная героиня — загадочная, непостижимая Рейчел — один из самых запоминающихся образов в английской литературе. Необычные, а порой и фантастические сюжеты Дюморье всегда отличает своего рода «достоверность невероятного». В романе «Козел отпущения», также представленном в настоящем издании, с виртуозной психологической точностью рассказана история странной встречи англичанина Джона, путешествующего по Франции, со своим… двойником, владельцем стекольного завода и хозяином старинного замка.