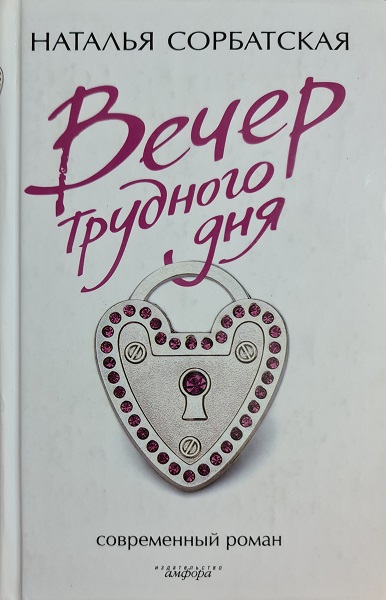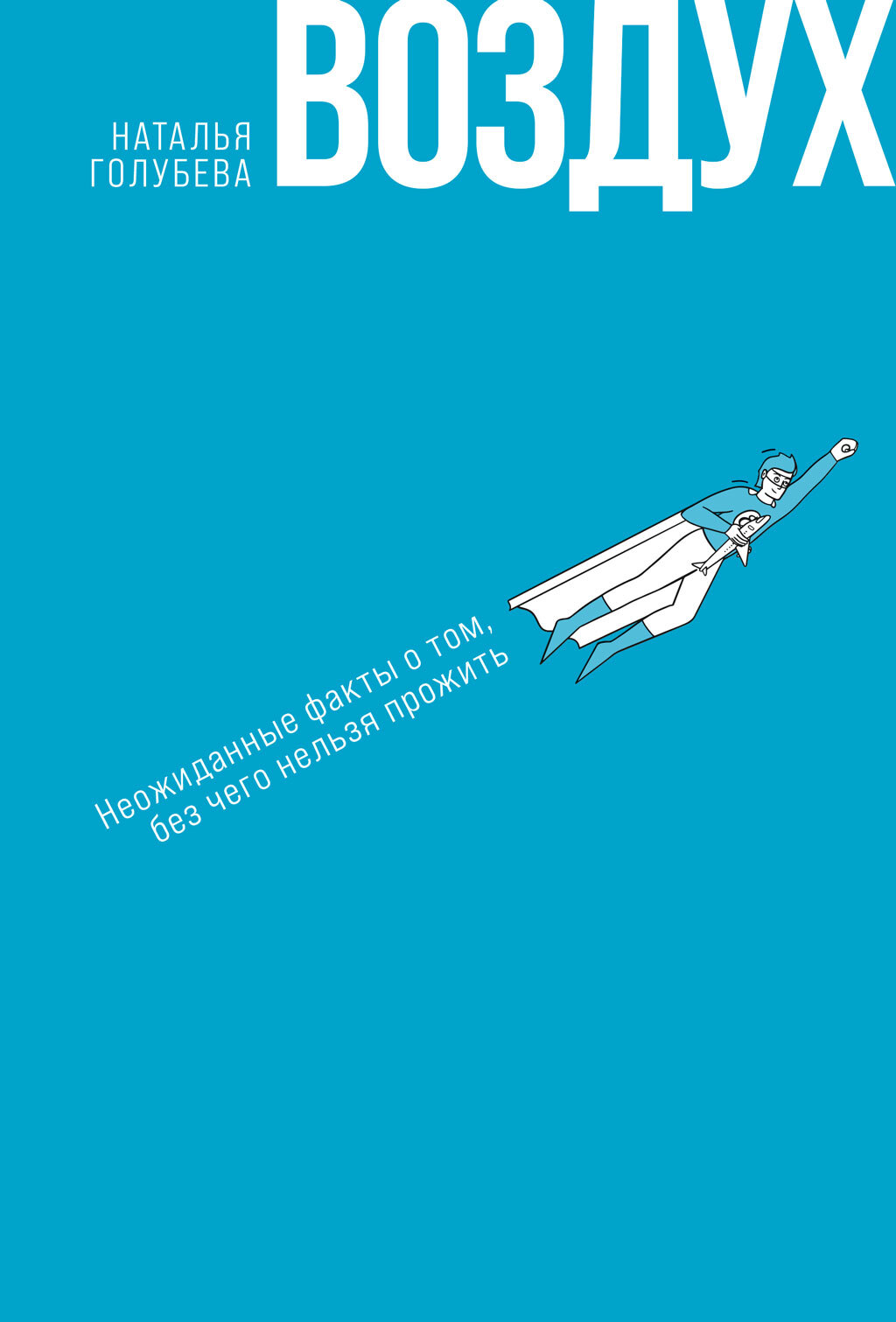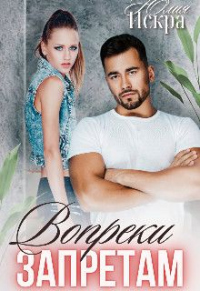Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
До поры до времени личная жизнь Анны, точно разноцветное лоскутное одеяло, состоит из множества разбросанных в пространстве и времени чужих смешных и грустных Любовей. Но однажды все раз и навсегда меняется.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сорбатская Наталья»: