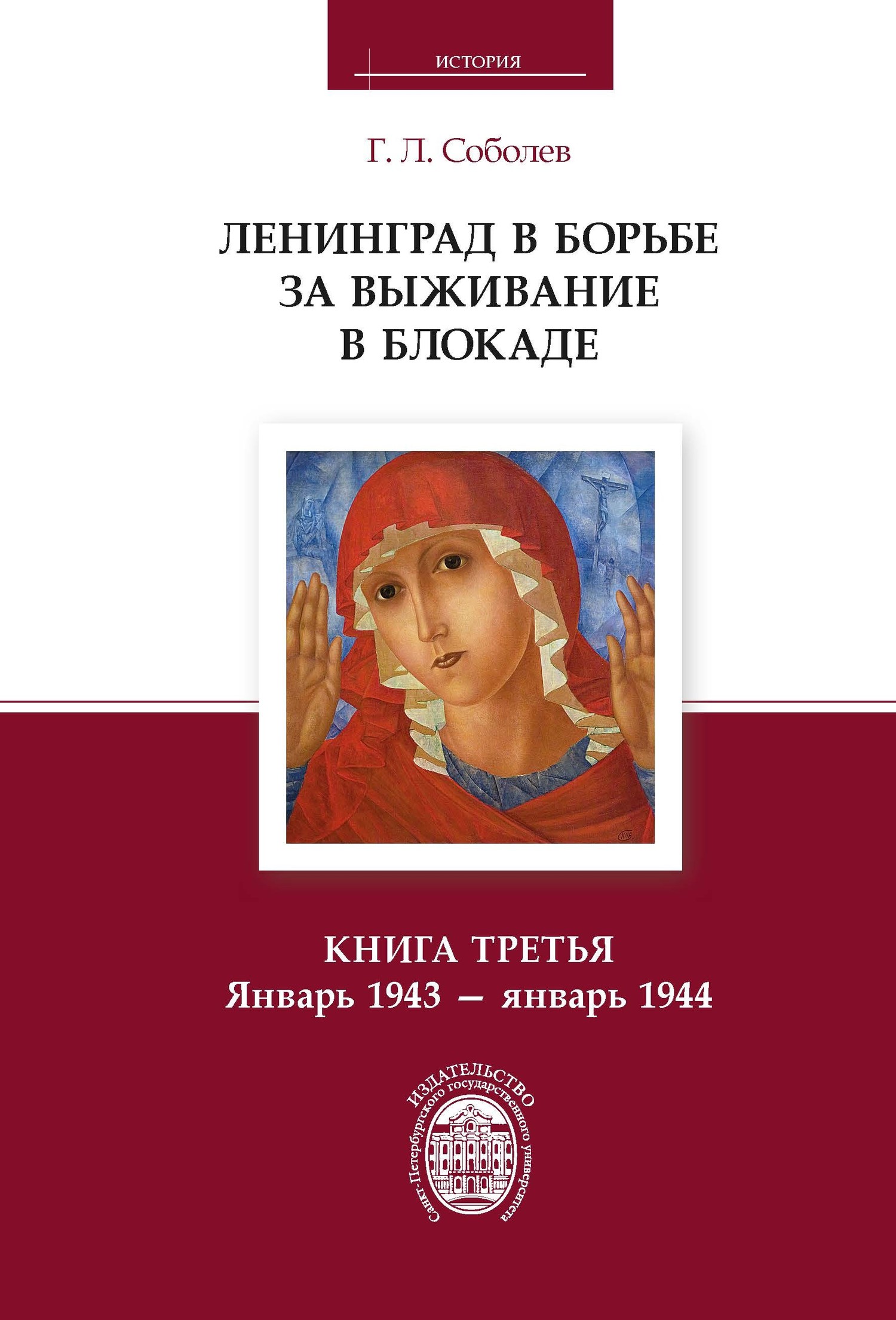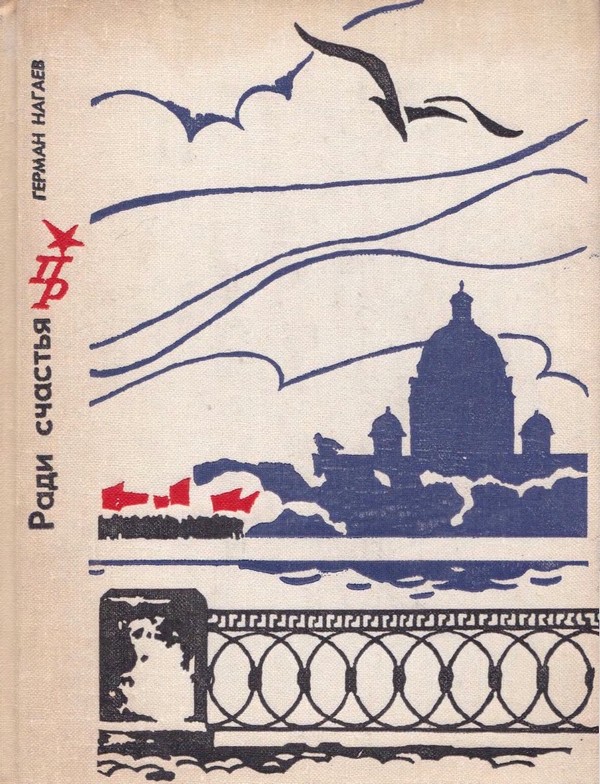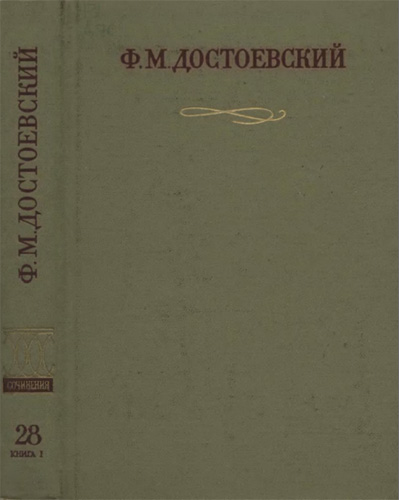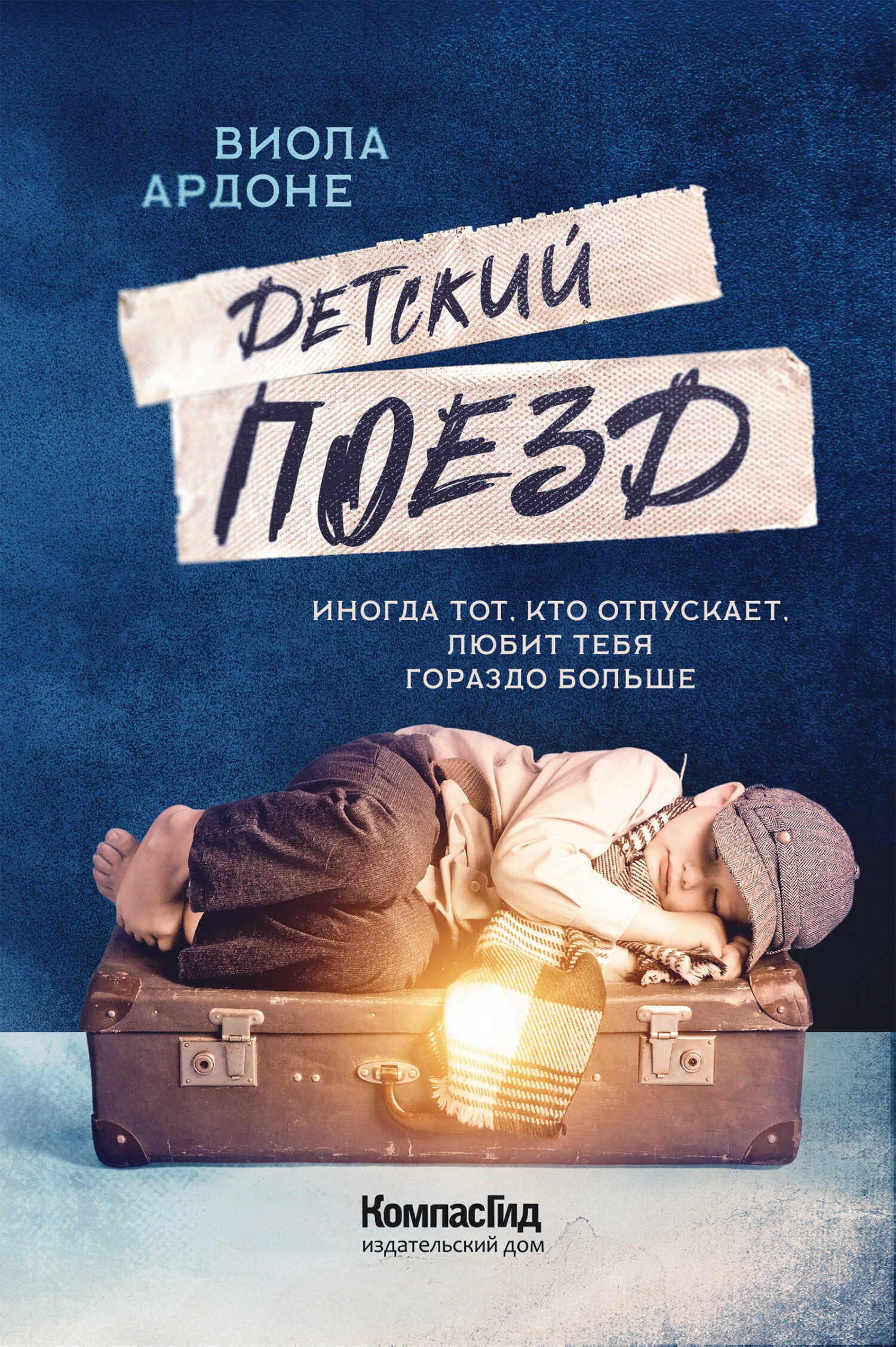Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В документальной повести кировского писателя и журналиста Виктора Бакина «Блокадные девочки» — ни слова выдумки, только правда. Автор записал горькие воспоминания женщин, которым в детстве пришлось перенести испытания, выпавшие на долю жителей блокадного Ленинграда. Они выстояли. А потом их эвакуировали в тыл страны, охваченной войной… Воспоминания простых людей помогут каждому из нас лучше понять несгибаемый русский характер, а также то, каких усилий стоила нашему народу победа над нацистами.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Семенович Бакин»: