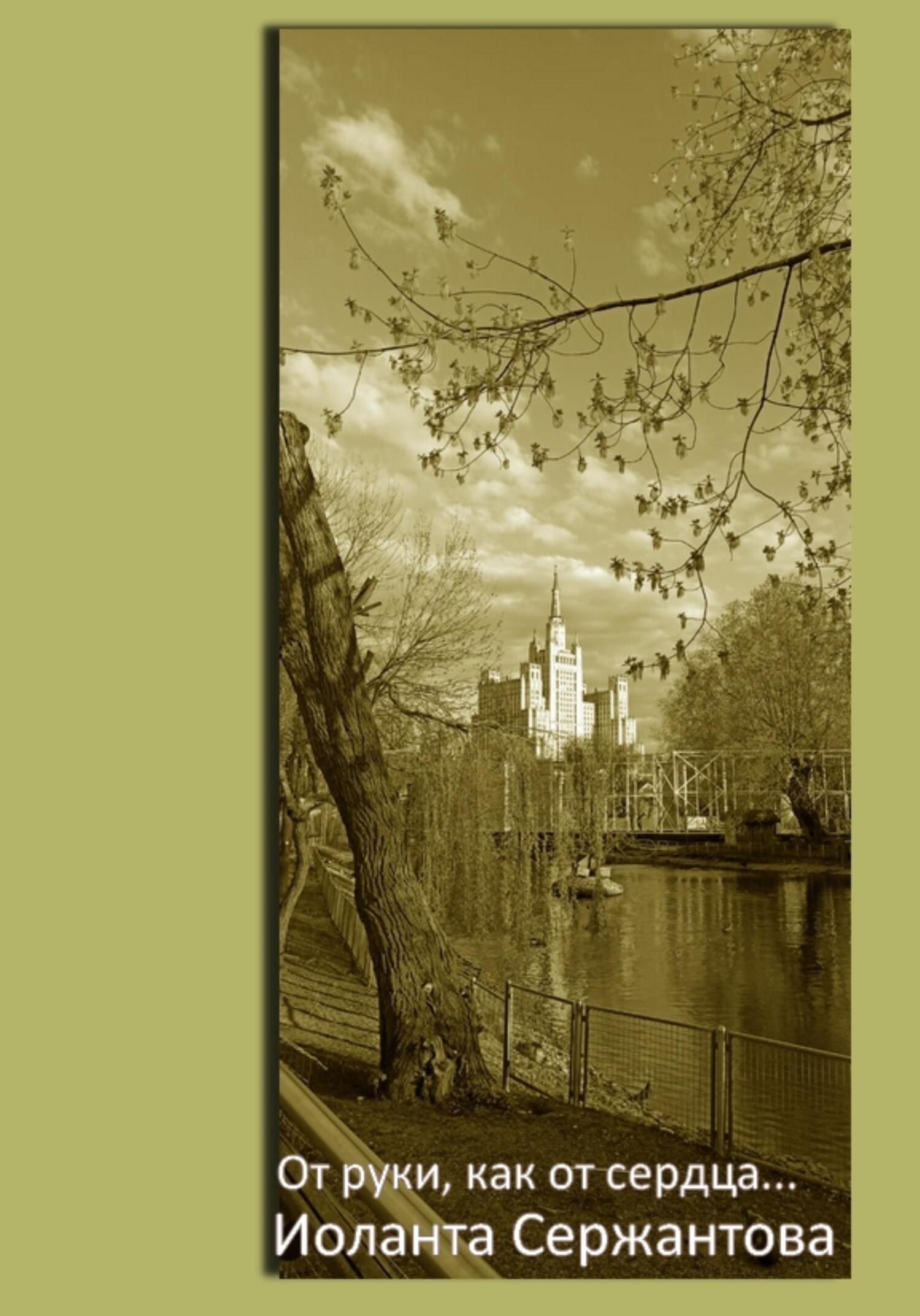Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник рассказов, новелл и эссе о героях нашей Родины, которые не задумываются о героизме, и об обитателях природы нашей Родины. Все персонажи являются вымышленными, сходство с реальными событиями и людьми случайно.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иоланта Ариковна Сержантова»: