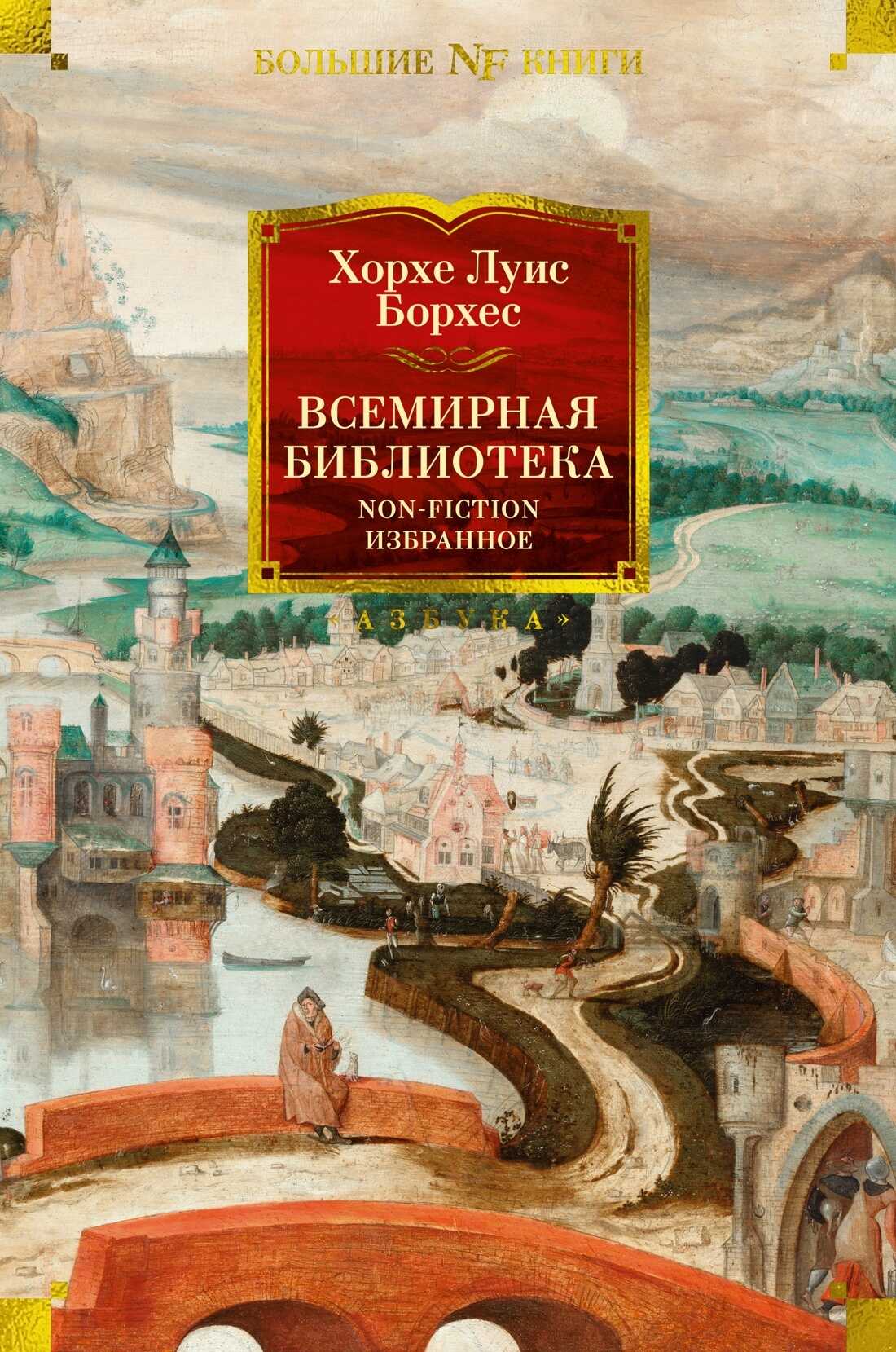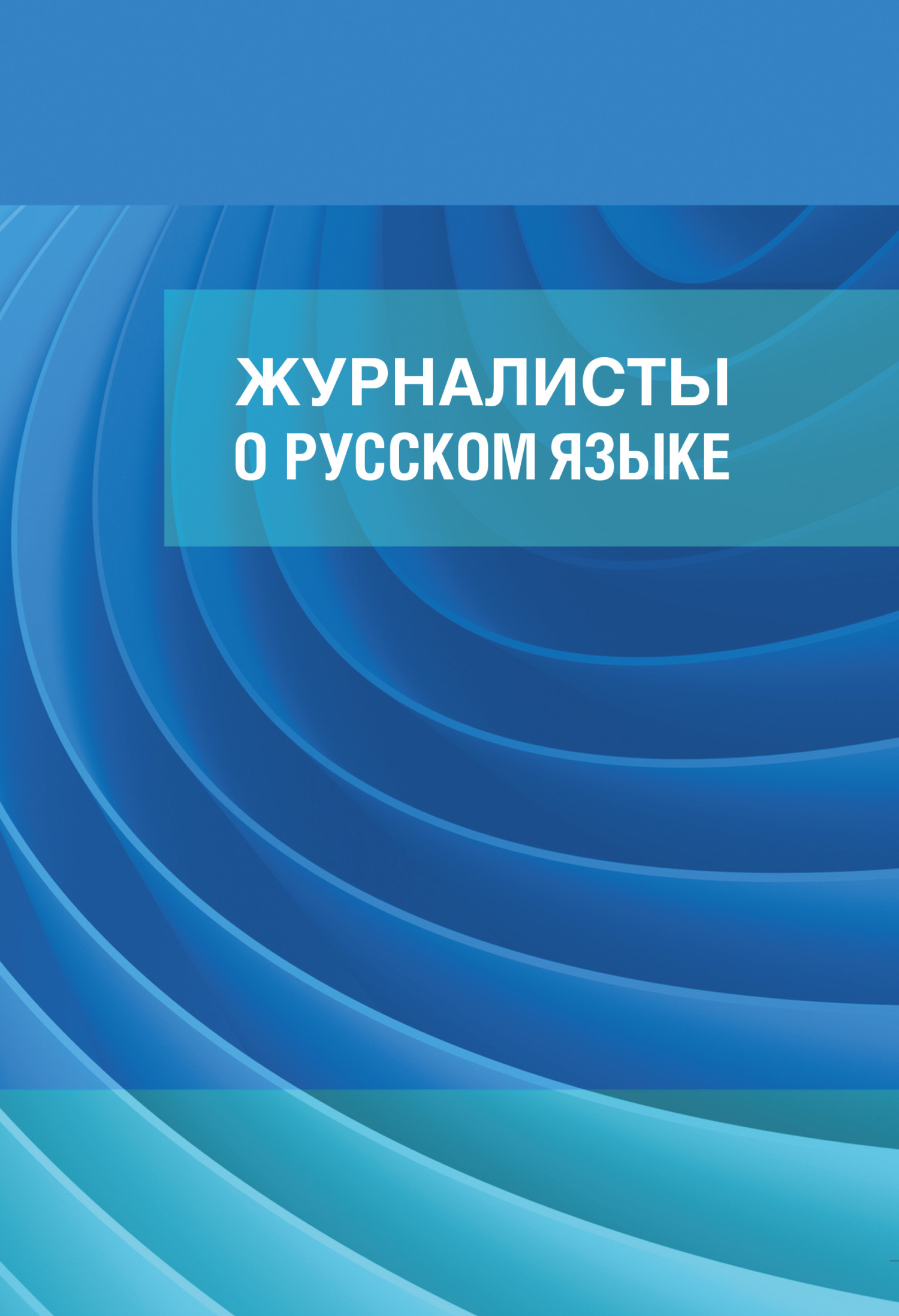Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей ХХ века, во многом определивший облик современной литературы. Тексты Борхеса, будь то художественная проза, поэзия или размышления, представляют собой своеобразную интеллектуальную игру – они полны тайн и фантастических образов, чьи истоки следует искать в литературах и культурах прошлого. В настоящее издание полностью вошел авторский сборник «Алеф», собрание вымышленных историй, которое принесло аргентинскому писателю мировую известность. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Хорхе Луис Борхес»: