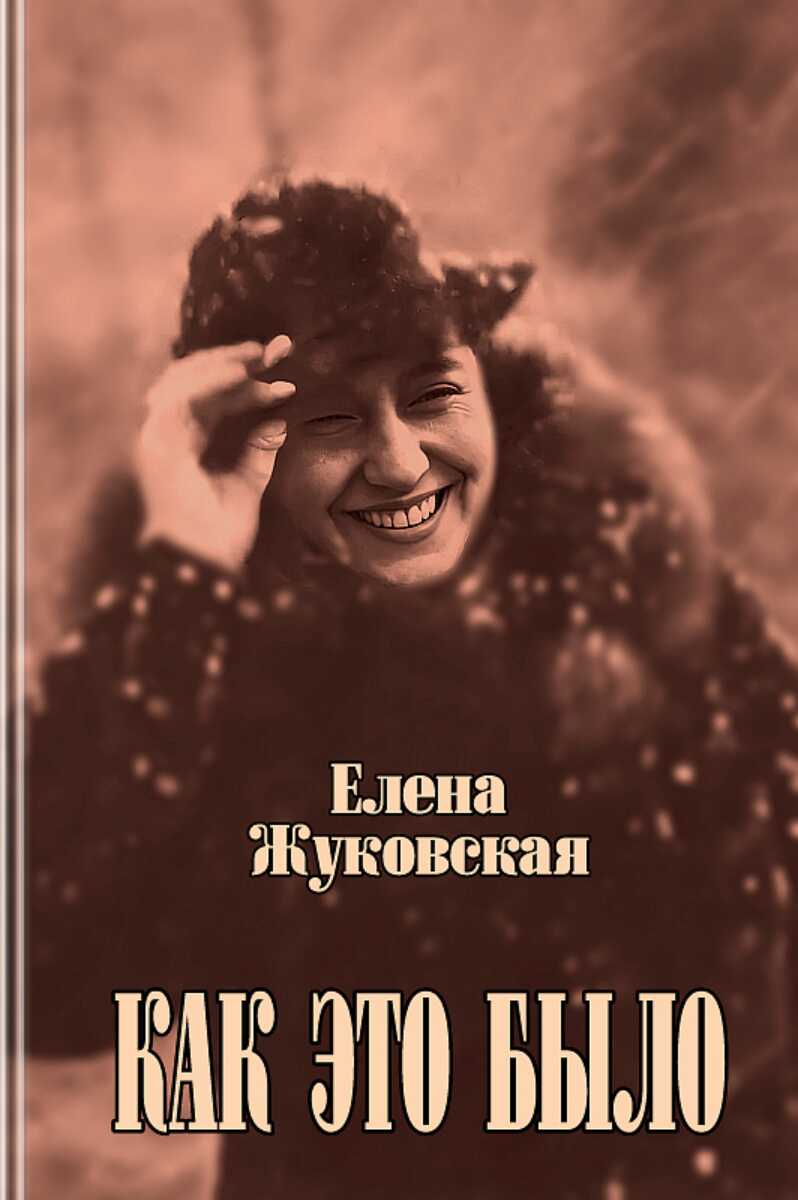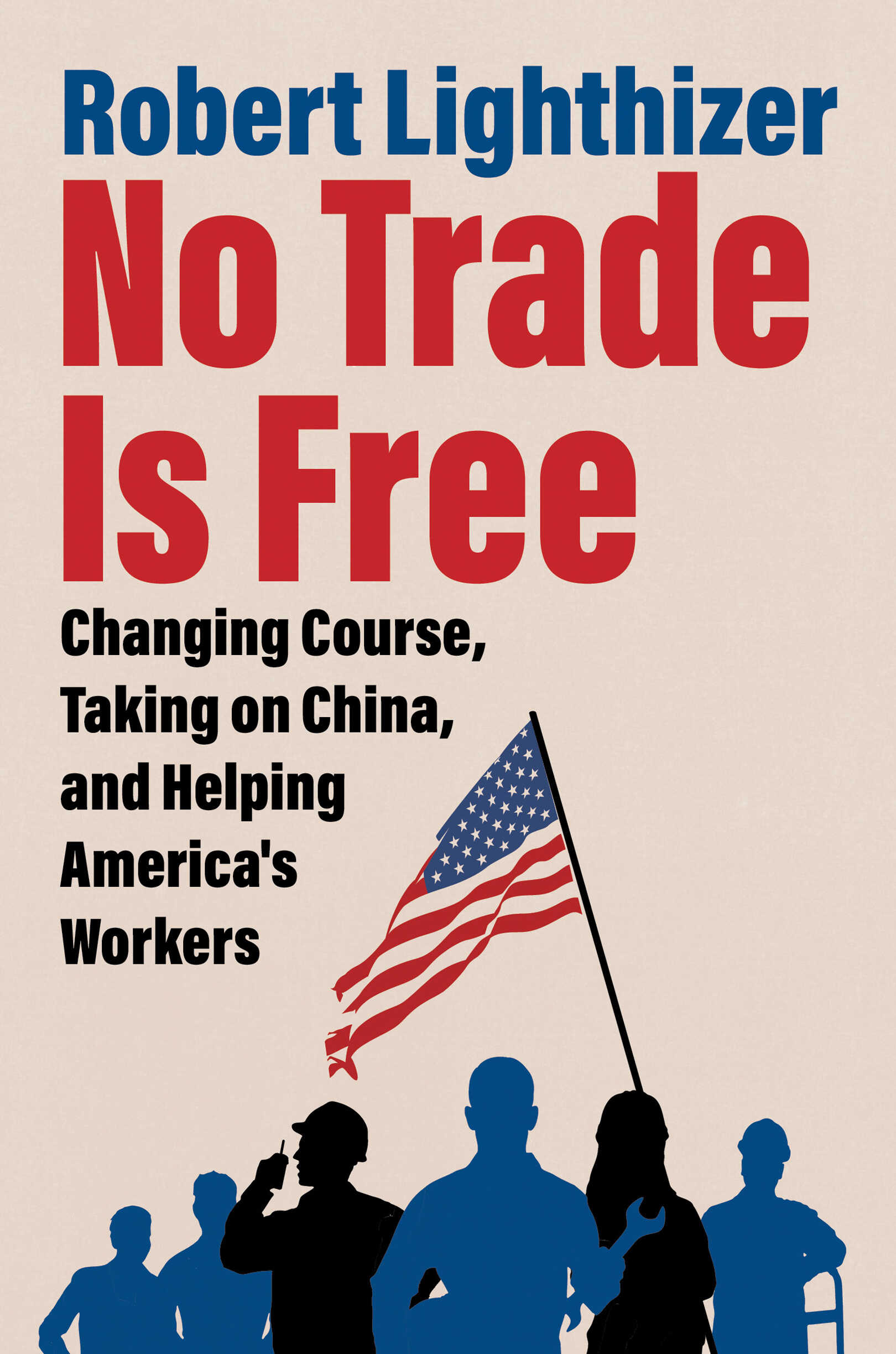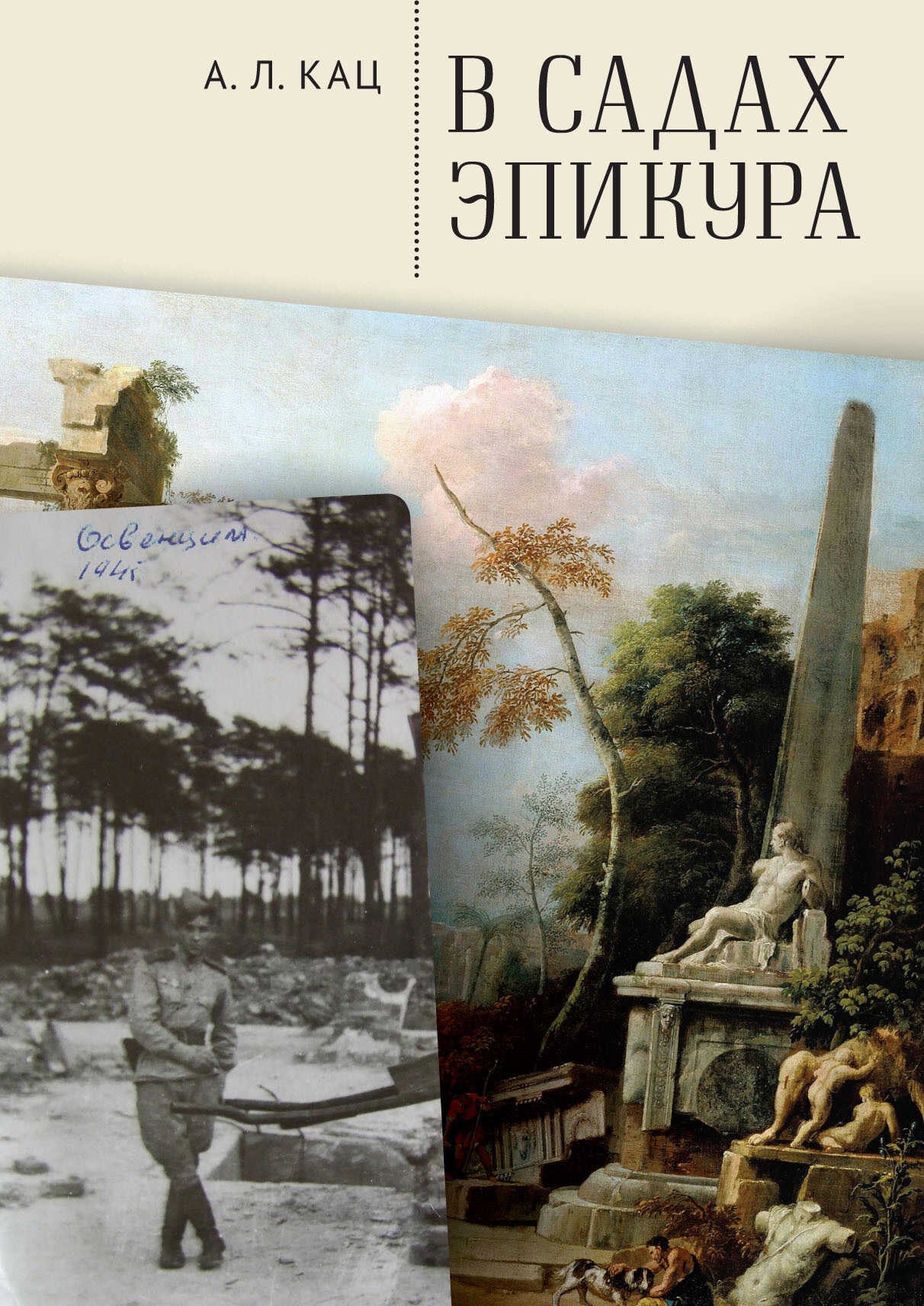Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Мне кажется, что я прожила не одну, а несколько жизней. В ней было много контрастов, и судьба моя тесно переплелась с событиями, происходившими в нашей стране за многие годы. На моей памяти прошли войны 14-го и 41-го годов, Февральская и Октябрьская революции, гражданская война, голод, разруха. Трудные годы студенчества. Затем жизнь и работа за границей. А дальше арест, тюрьма и высылки; наконец, возвращение к жизни с нуля. На этом пути встретились мне многие интересные, а порой и известные всем люди». Так начинает рассказ о своей жизни Елена Жуковская. Сокращённый вариант книги её воспоминаний был опубликован в 1989 году журналом «Химия и жизнь», №№ 6,8 и 9.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Елена Георгиевна Жуковская»: