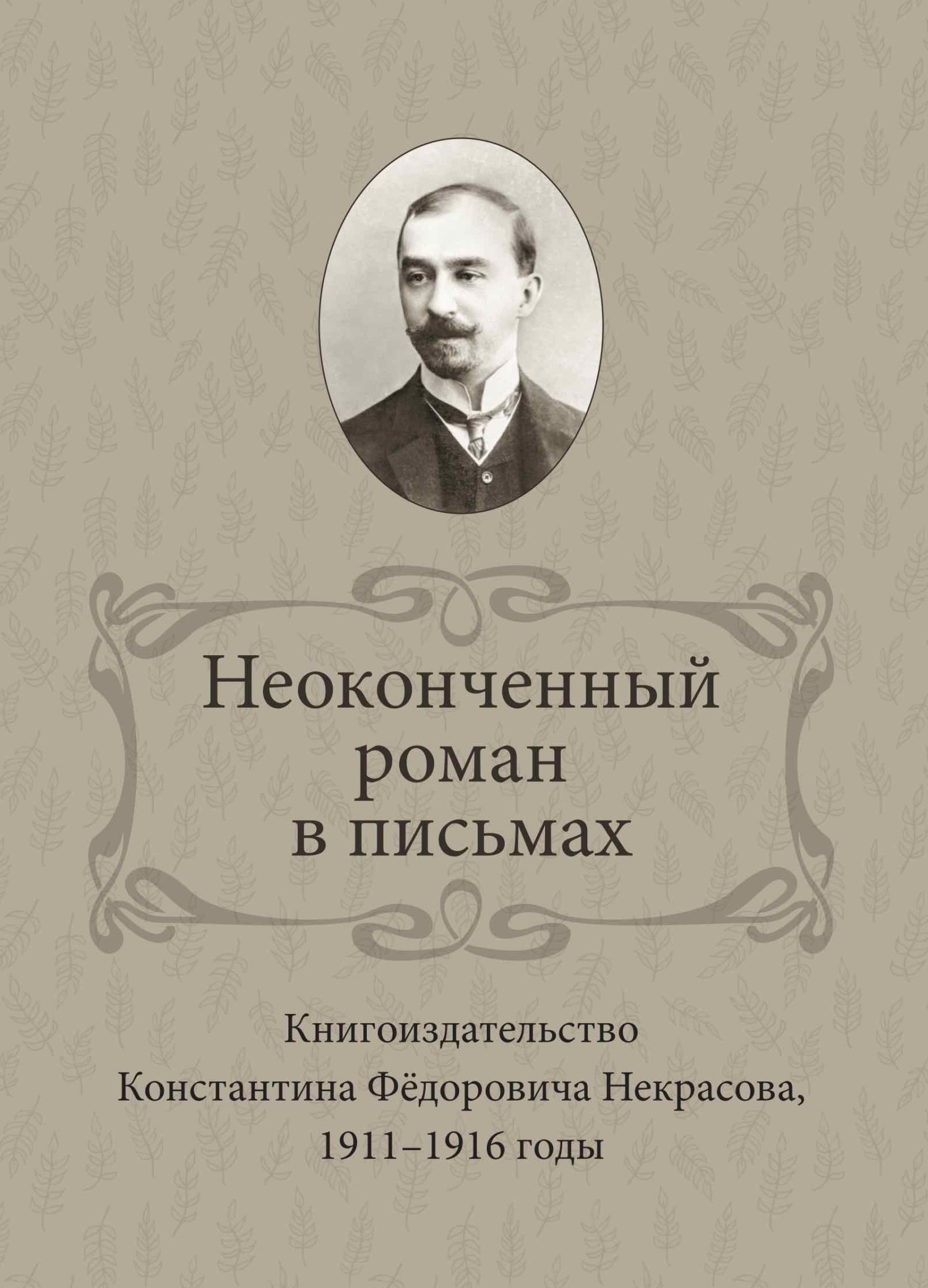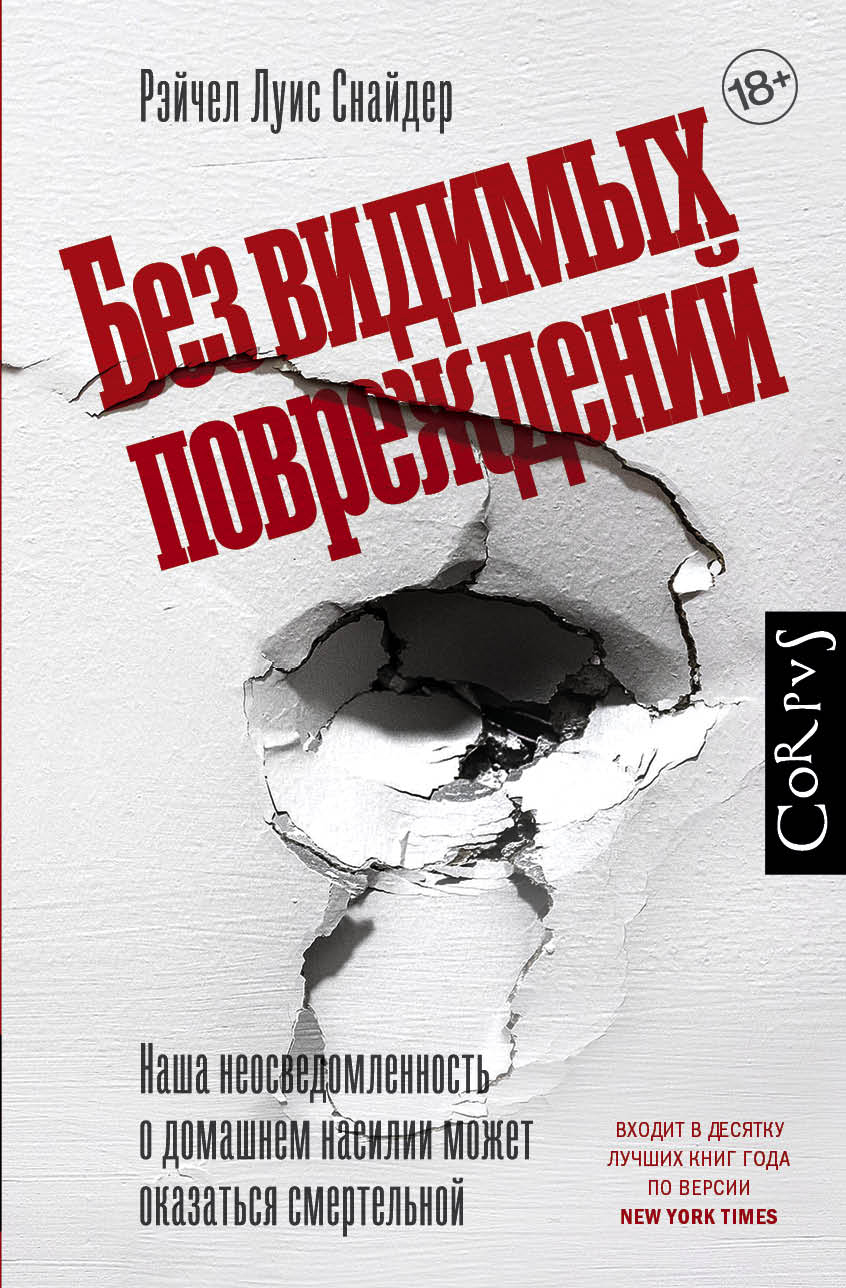Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Последний роман русского писателя и теоретика авангарда Ильи Зданевича (Ильязда), написанный в 1930 г. в Париже и при его жизни не опубликованный. Авантюрные и мистические события произведения происходят в 1920–1921 гг. в Константинополе, живущем в ожидании поистине революционных событий. Его центральными образами выступают собор Святой Софии, захват которой планируется русскими беженцами, и самого Константинополя, готовящегося пасть жертвой советского вторжения.Текст содержит подробные исторические и литературные комментарии, к роману добавлено 4 приложения, в том числе военные репортажи автора из Турции 1914–1916 гг. В книге 19 иллюстраций поэта-трансфуриста Б. Констриктора.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Илья Михайлович Зданевич»: