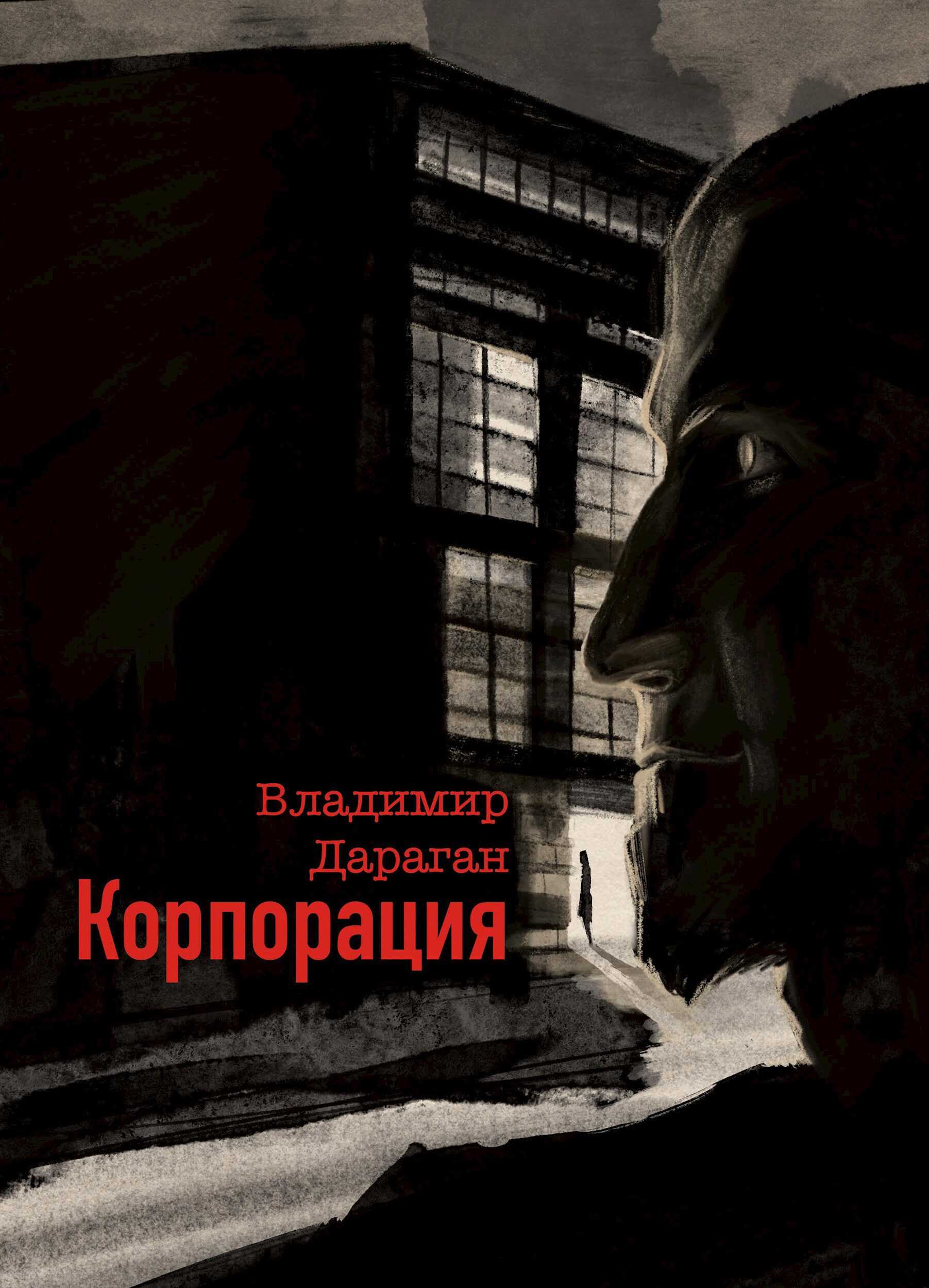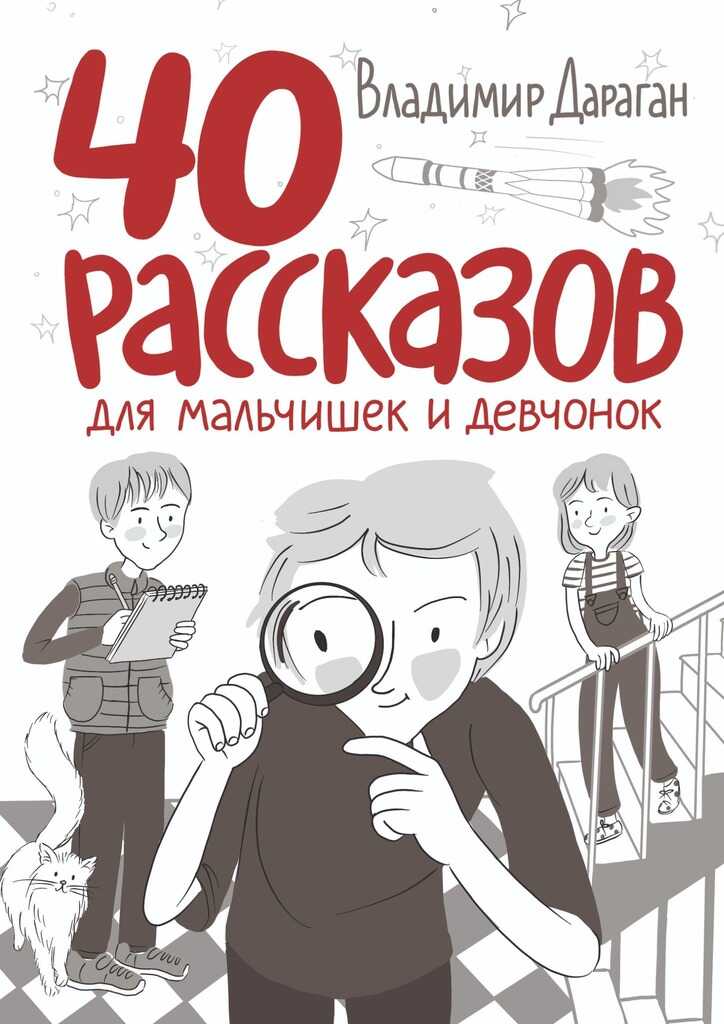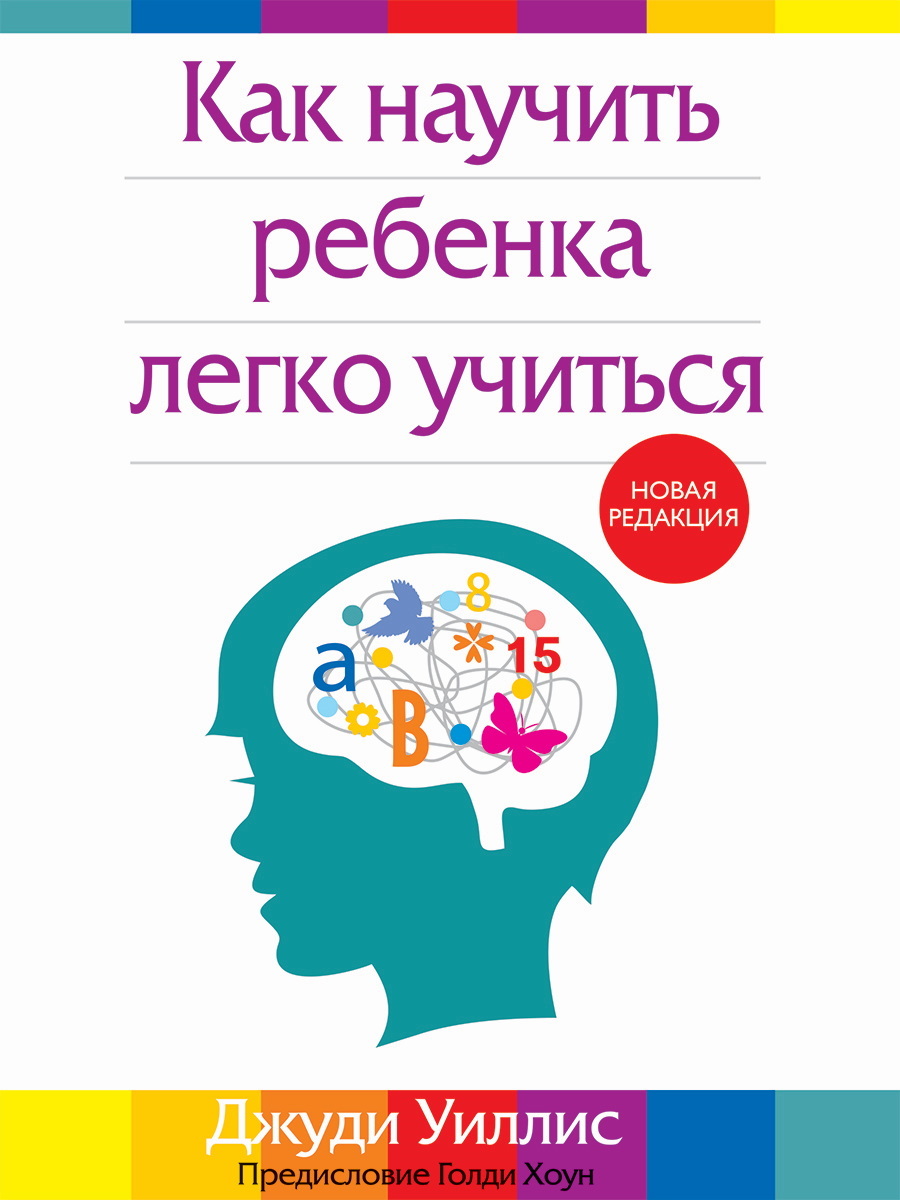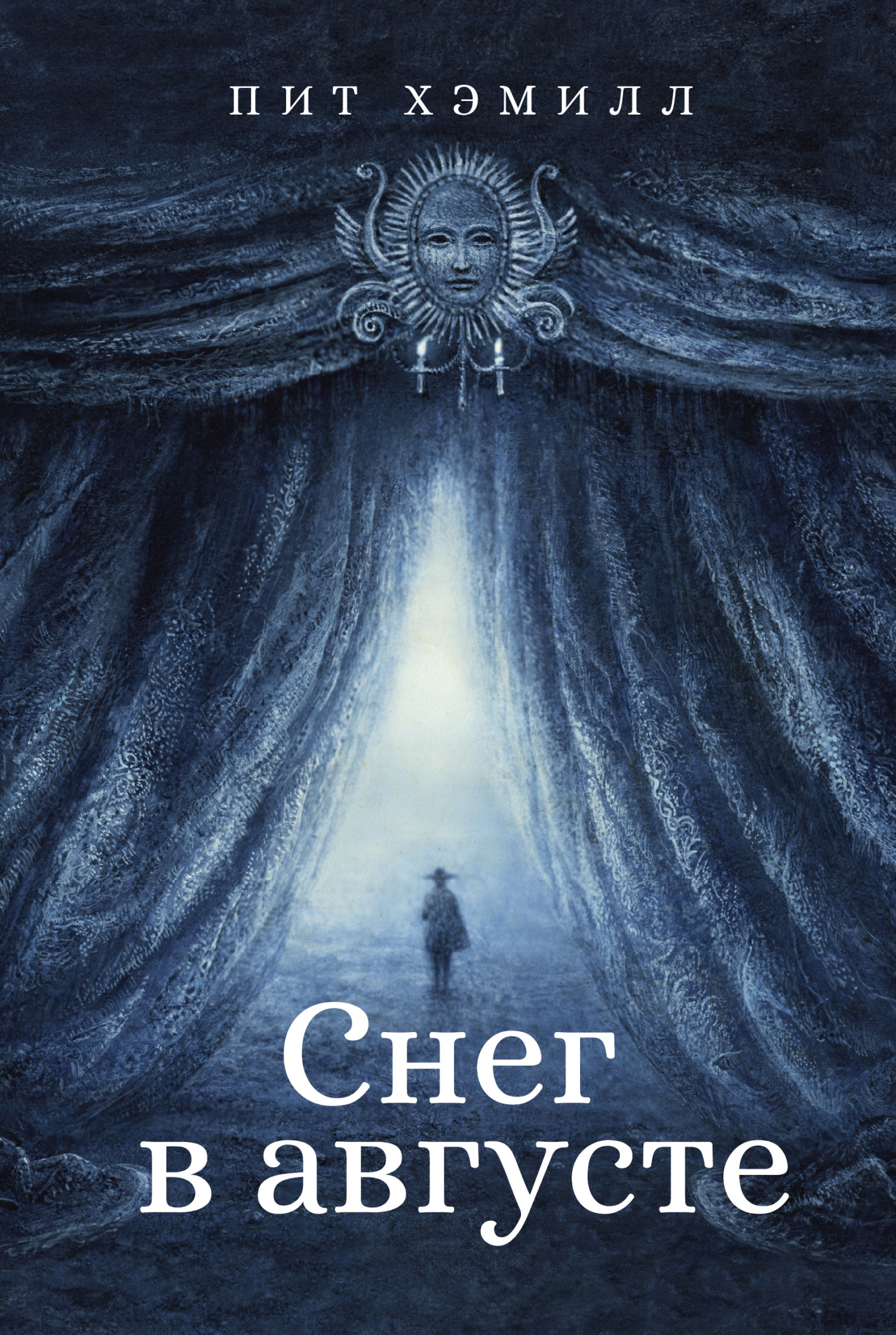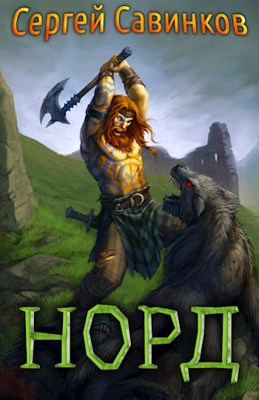Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
2020 год. Пандемия, маски, закрытые границы, путешествия ограничены. Но ведь можно пригласить друга, растопить камин, взять в руки глобус и начать с ним виртуальные путешествия по пространству и времени.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Александрович Дараган»: