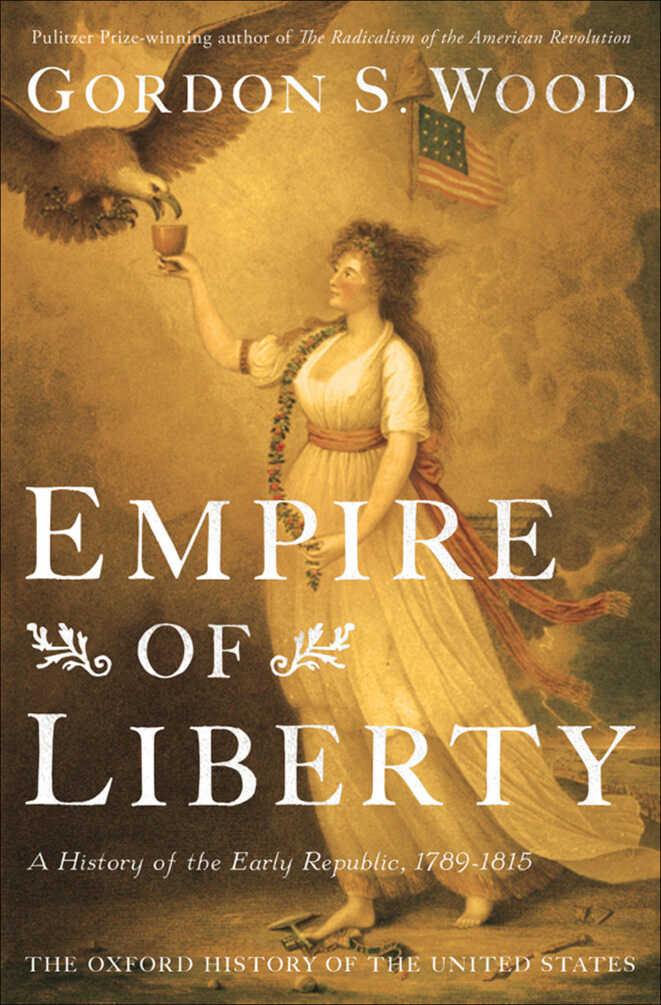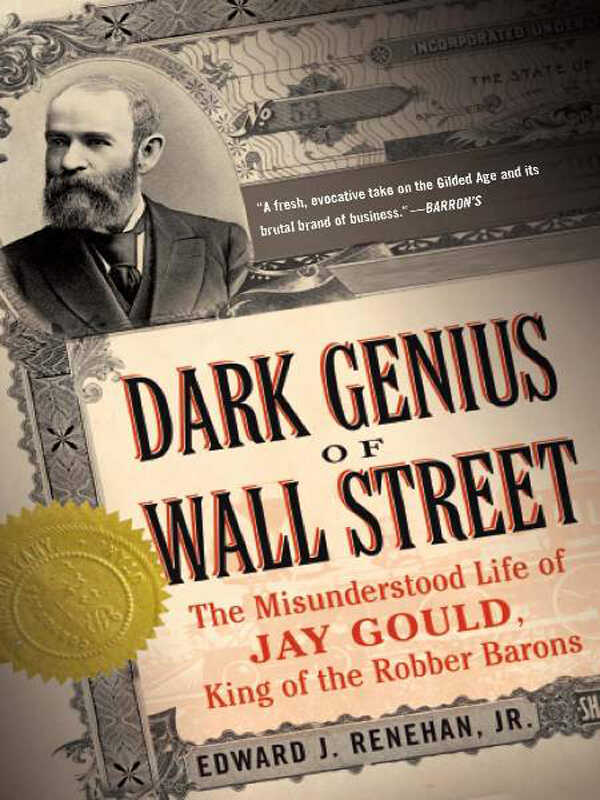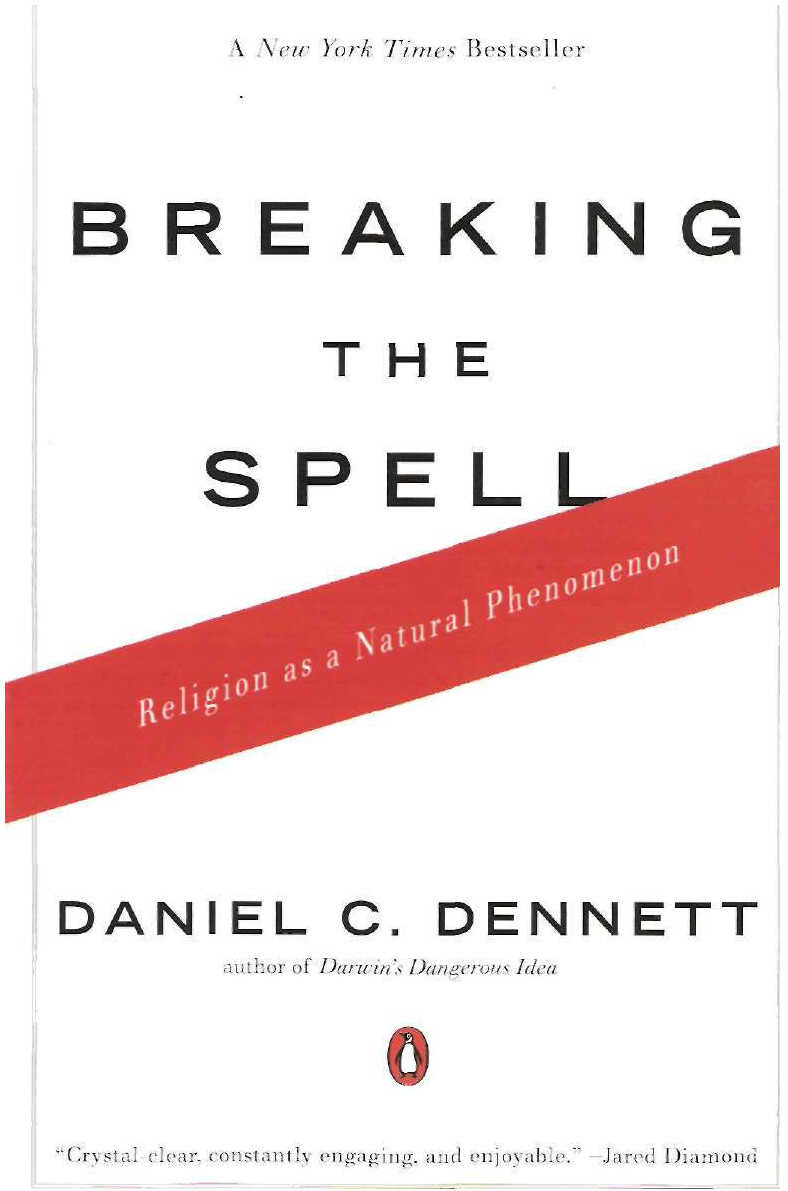Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Один из самых уважаемых историков Америки Гордон С. Вуд предлагает блестящий рассказ о ранней Американской республике, начиная с 1789 года и начала формирования национального правительства и заканчивая окончанием войны 1812 года.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Gordon S. Wood»: