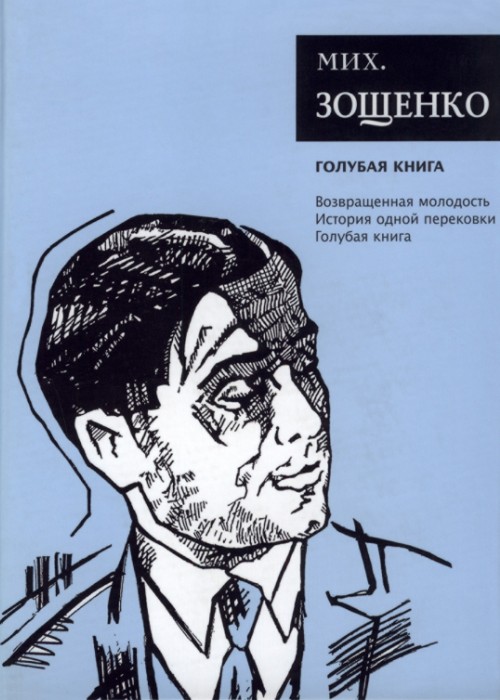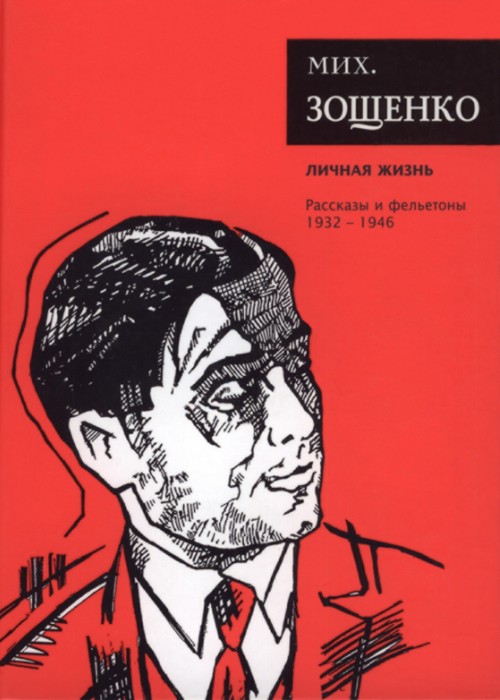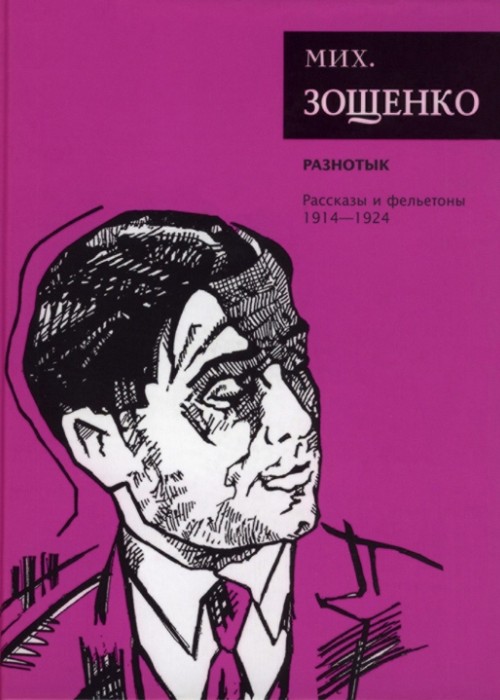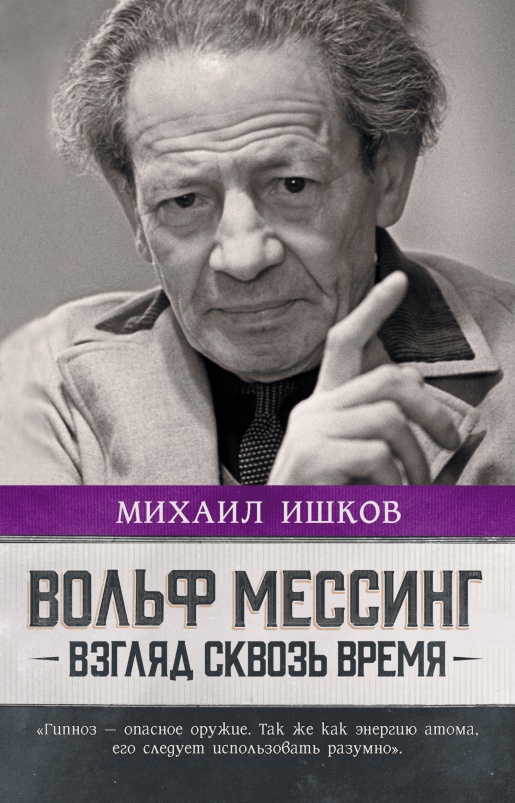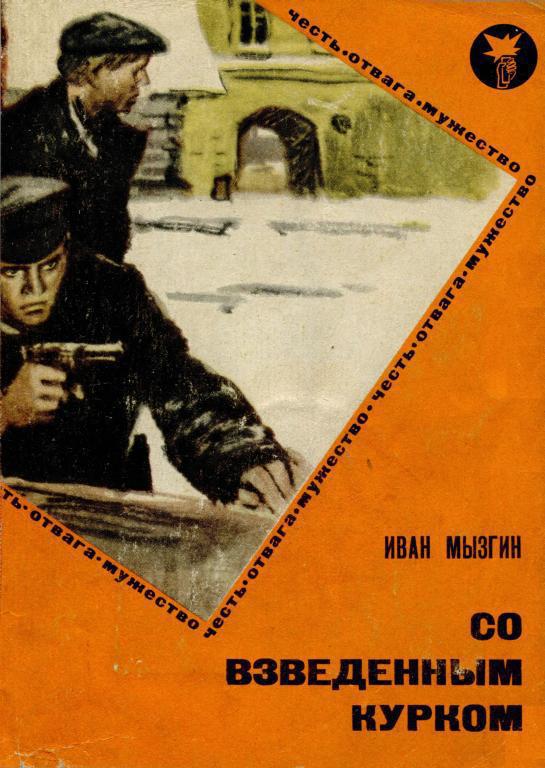Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В первый том собрания сочинений Михаила Зощенко включены его ранние «Разнотык. Рассказы и фельетоны (1914–1924)». Это произведения, в которых автор отражает свой жизненный опыт, свои впечатления и наблюдения, свои мысли и чувства. Зощенко пишет о разных сторонах жизни: о войне и революции, о любви и дружбе, о работе и отдыхе, о культуре и искусстве, о политике и обществе. Он делает это с юмором, фантазией, оригинальностью и самоиронией. Зощенко не боится экспериментировать с формой и языком, пробуя разные жанры и стили: от реализма до гротеска, от лирики до сатиры, от прозы до поэзии. Его «Разнотык» – это своеобразная хроника эпохи, которая представляет интерес не только для историков, но и для широкого круга читателей. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com, где вы найдете множество других интересных и полезных книг разных жанров и авторов. Наслаждайтесь чтением! 😊
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Михайлович Зощенко»: