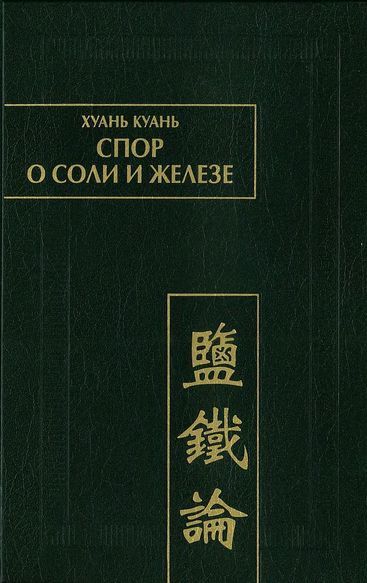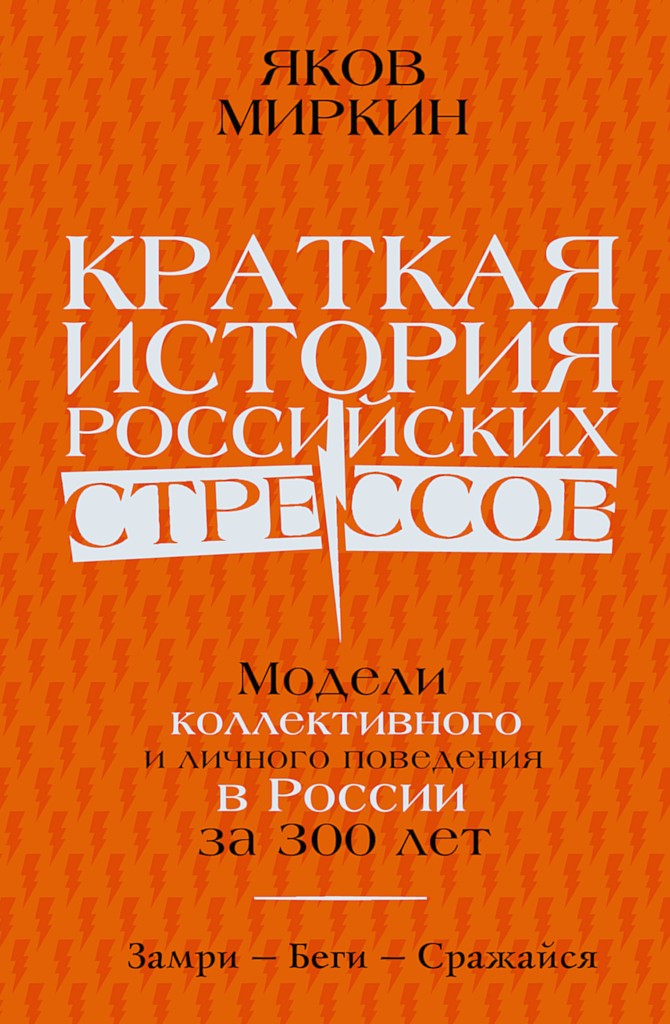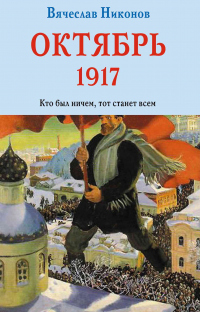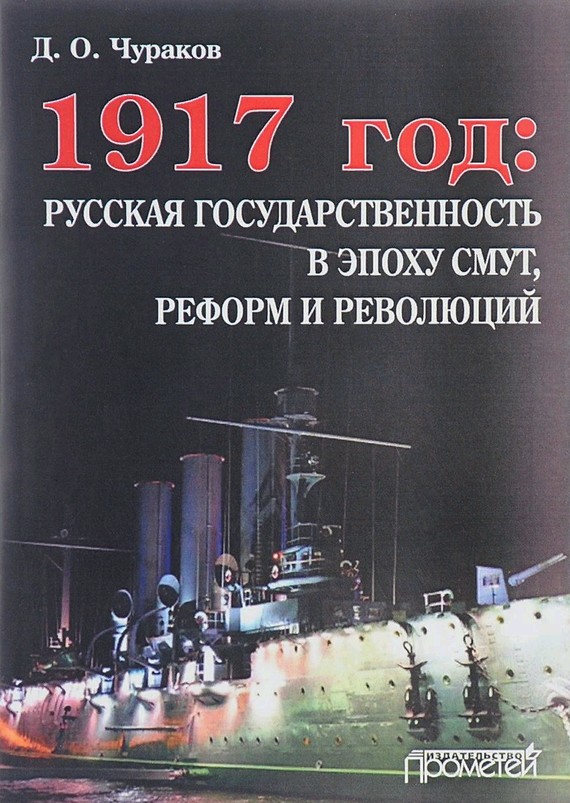Шрифт:
Закладка:
Что такое русская идея? Как она возникла и развивалась в истории России? Как она повлияла на судьбы миллионов людей? Как она отражается в политике, культуре, обществе современной России? На эти и многие другие вопросы пытается ответить известный историк, публицист и политолог Александр Янов в своей монументальной работе «Русская идея. От Николая I до Путина».
В первой книге этого проекта автор рассказывает о периоде с 1825 по 1917 год, когда русская идея претерпела ряд трансформаций, отражая изменения в общественном сознании, политической системе, мировом порядке. От славянофильства и западничества до народничества и социализма, от самодержавия и автократии до революции и демократии, от империи и национализма до федерации и интернационализма — все эти течения и явления анализируются автором с точки зрения русской идеи, ее содержания, формы, функции, роли.
Александр Янов не просто излагает факты и даты, но и выдвигает свои оригинальные гипотезы, интерпретации, оценки. Он не боится критиковать стереотипы, мифы, ложные представления о русской истории. Он не стремится угодить ни одной из сторон или партий. Он пишет как ученый, который хочет понять и объяснить сложные процессы и явления. Он пишет как гражданин, который заботится о будущем своей страны.
Если вы хотите узнать больше о русской идее, ее прошлом, настоящем и будущем, то эта книга для вас. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Это будет интересное и полезное чтение для всех, кто интересуется российской историей, политикой, культурой.