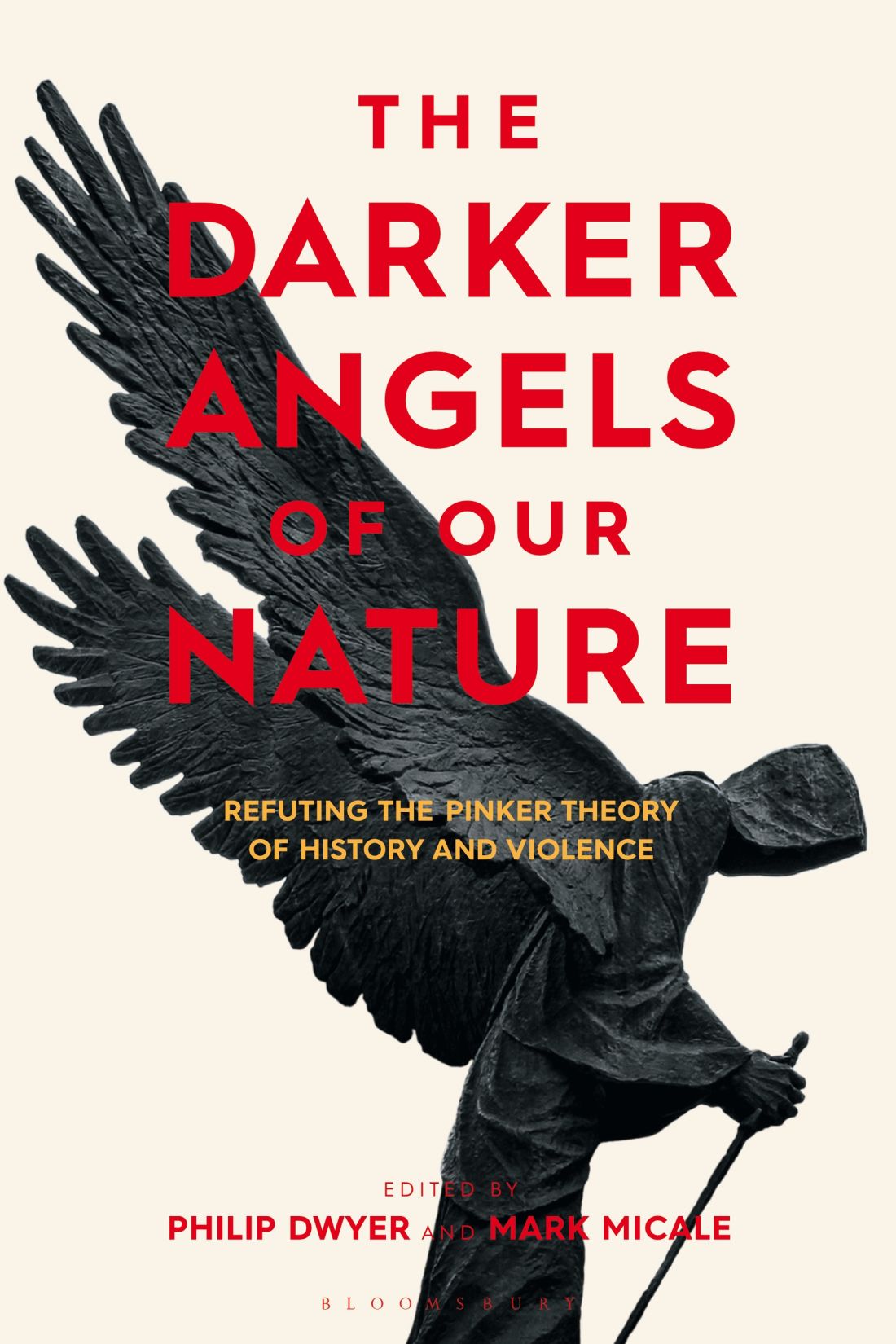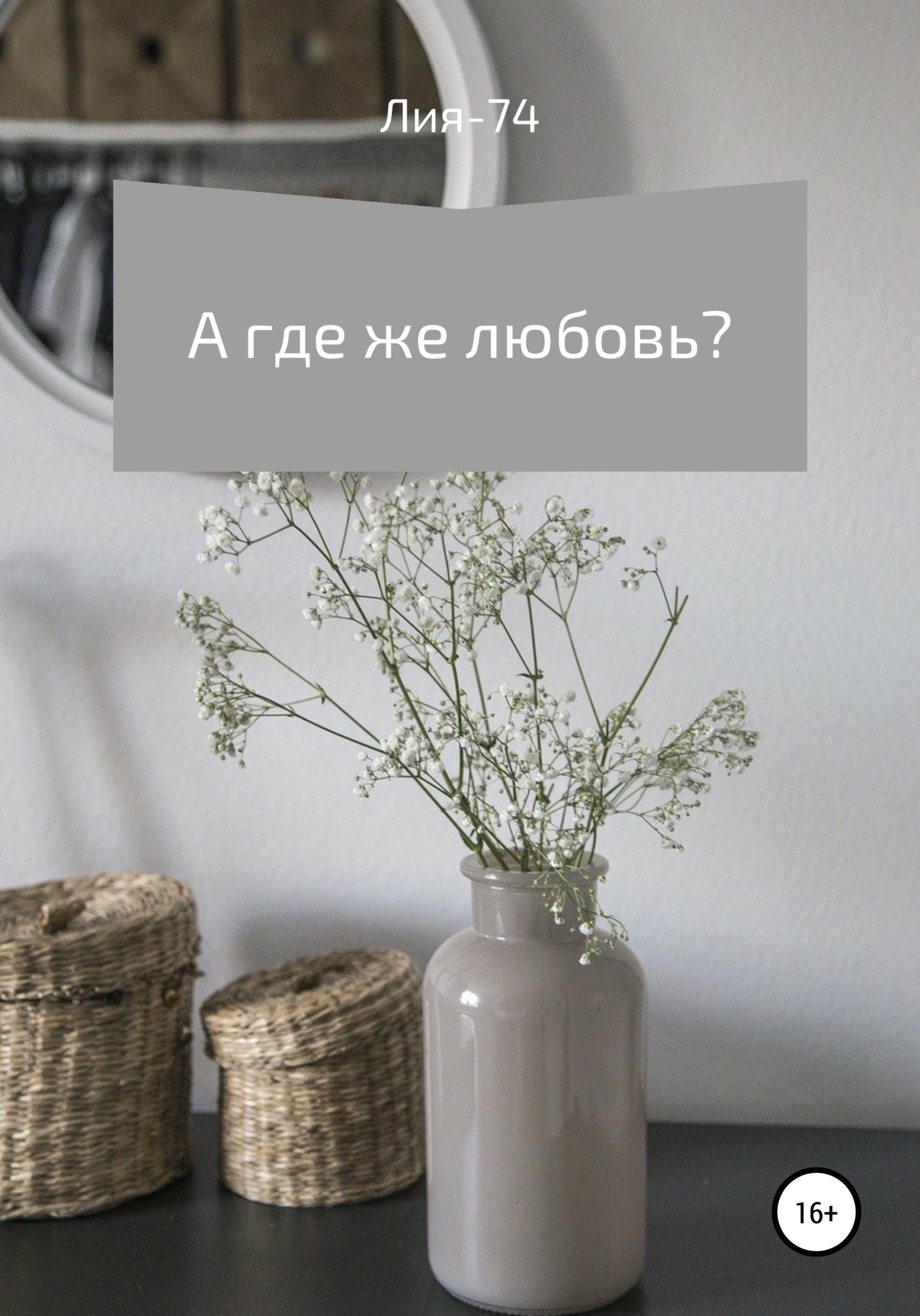Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Человек нередко пребывает в состоянии, когда «хочется чего-нибудь такого». Что просит мятущаяся душа? – всегда вопрос… Книга завораживающей прозы Лесковой окажется как раз тем, что вы ищете, – «чем-нибудь таким».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алла Львовна Лескова»: