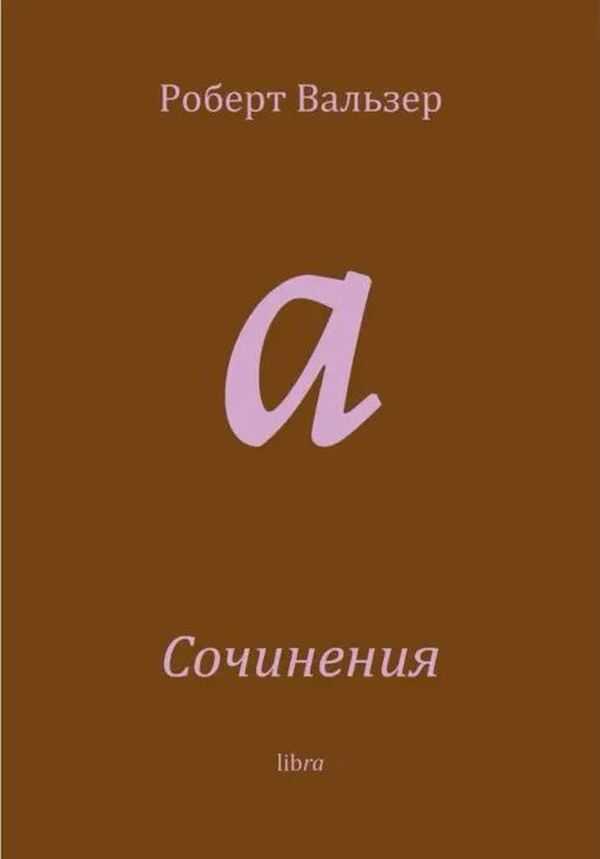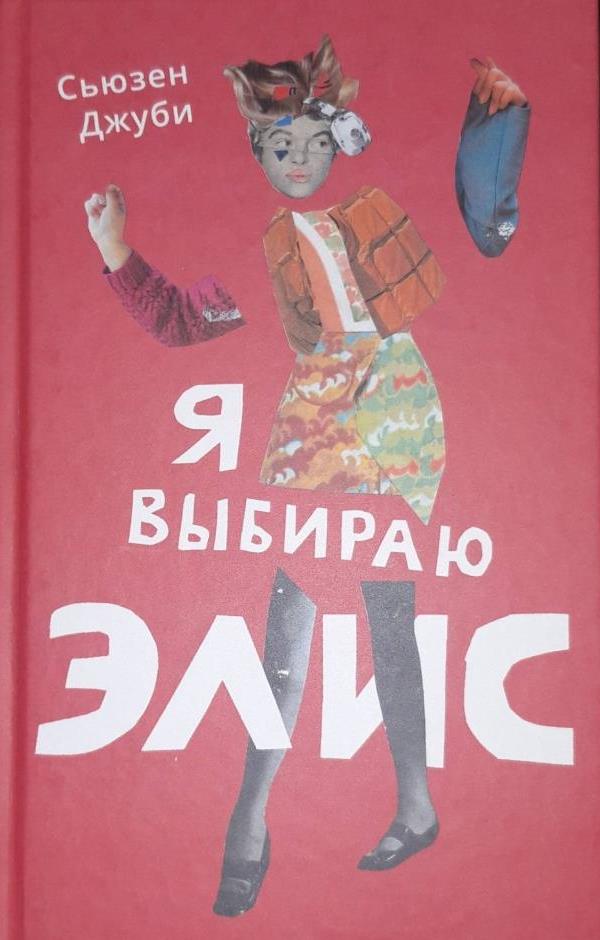Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник Роберта Вальзера Сочинения (Aufsätze), вышедший в 1913 г. в издательстве Курта Вольффа в Ляйпциге, был шестой книгой, которую Вальзер вынес на суд общественности, но ему впервые удалось найти издателя для разнородного собрания малой прозы. Разножанровые тексты 1908–1912 годов публиковались в журналах Schaubühne, Die Neue Rundschau, Rheinlande, Der Samstag и Simplicissimus. Созвучие со школьными сочинениями напоминает не только о первой опубликованной книге Вальзера «Школьные сочинения Фритца Кохера», с долей иронически-юродивого притворства название сборника указывает на аспект упражнения, этюда, демонстрации навыка письма как такового.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Роберт Отто Вальзер»: