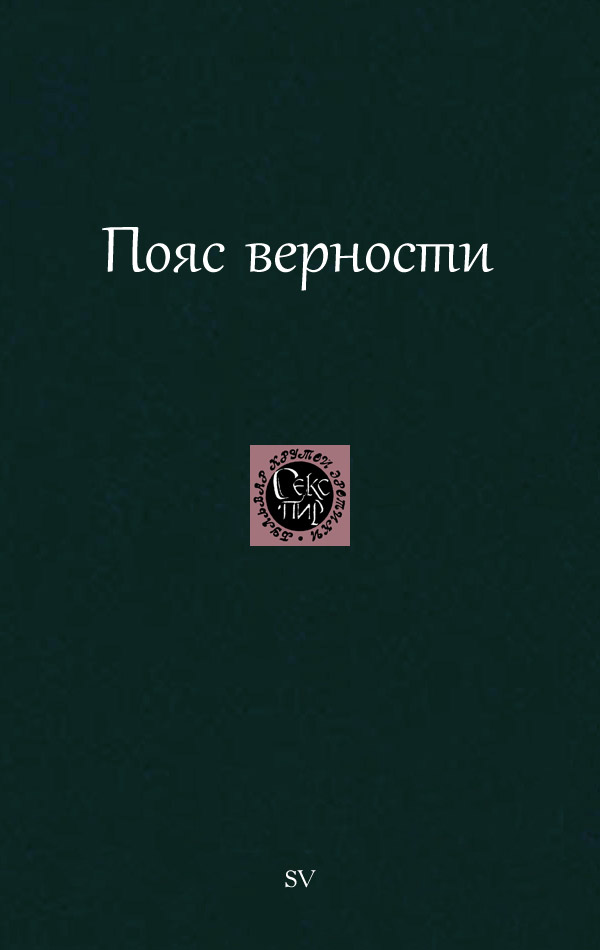Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Кто ты Леста Омела? Знахарка, ученица мага, фейри? Ты умерла четверть века назад… и вернулась с той стороны, чтобы рассказать свою историю."«Золотая свирель» – книга о вере в чудо, о страстном желании стать причастным волшебству и о волшебстве, пронизывающем мир.«Золотая свирель» – фэнтези о пути мага. О том, насколько запутан, обманчив и опасен этот путь. Это роман взросления, романтическая история и немного детектив.Вдохновлена легендой о Томасе Рифмаче, побывавшем в стране фейри и вернувшемся в человеческий мир, но навсегда оставшемся отмеченным магией Волшебной Страны.Эта книга – та самая тропа меж зеленых холмов, о которой рассказывал Толкин, тропа в Волшебную Страну.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ярослава Анатольевна Кузнецова»: