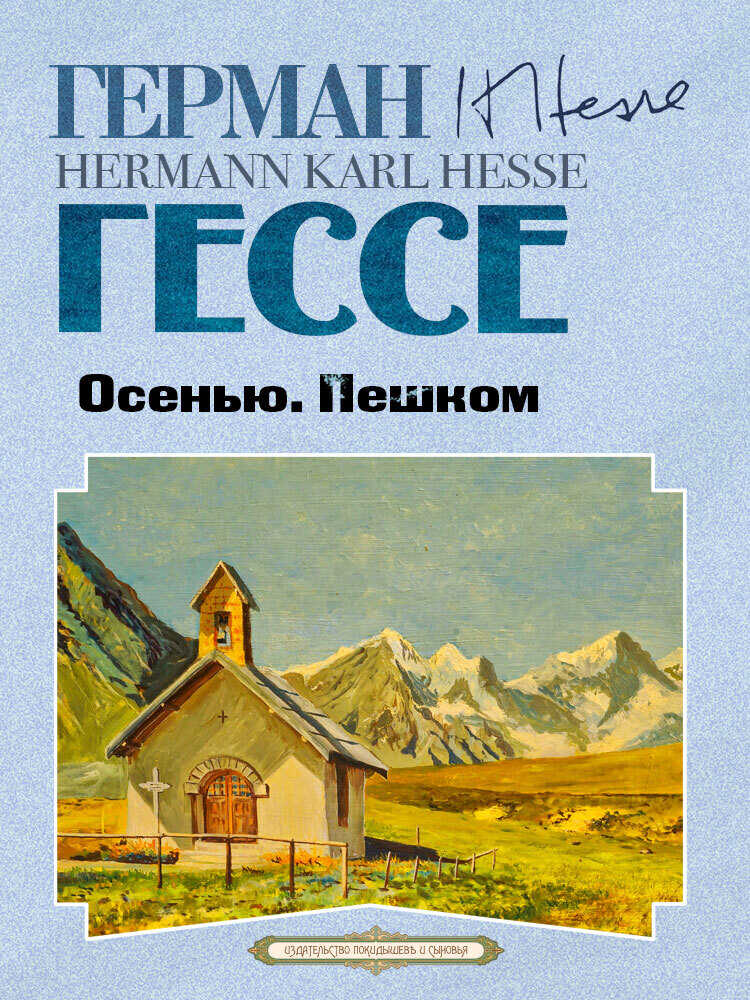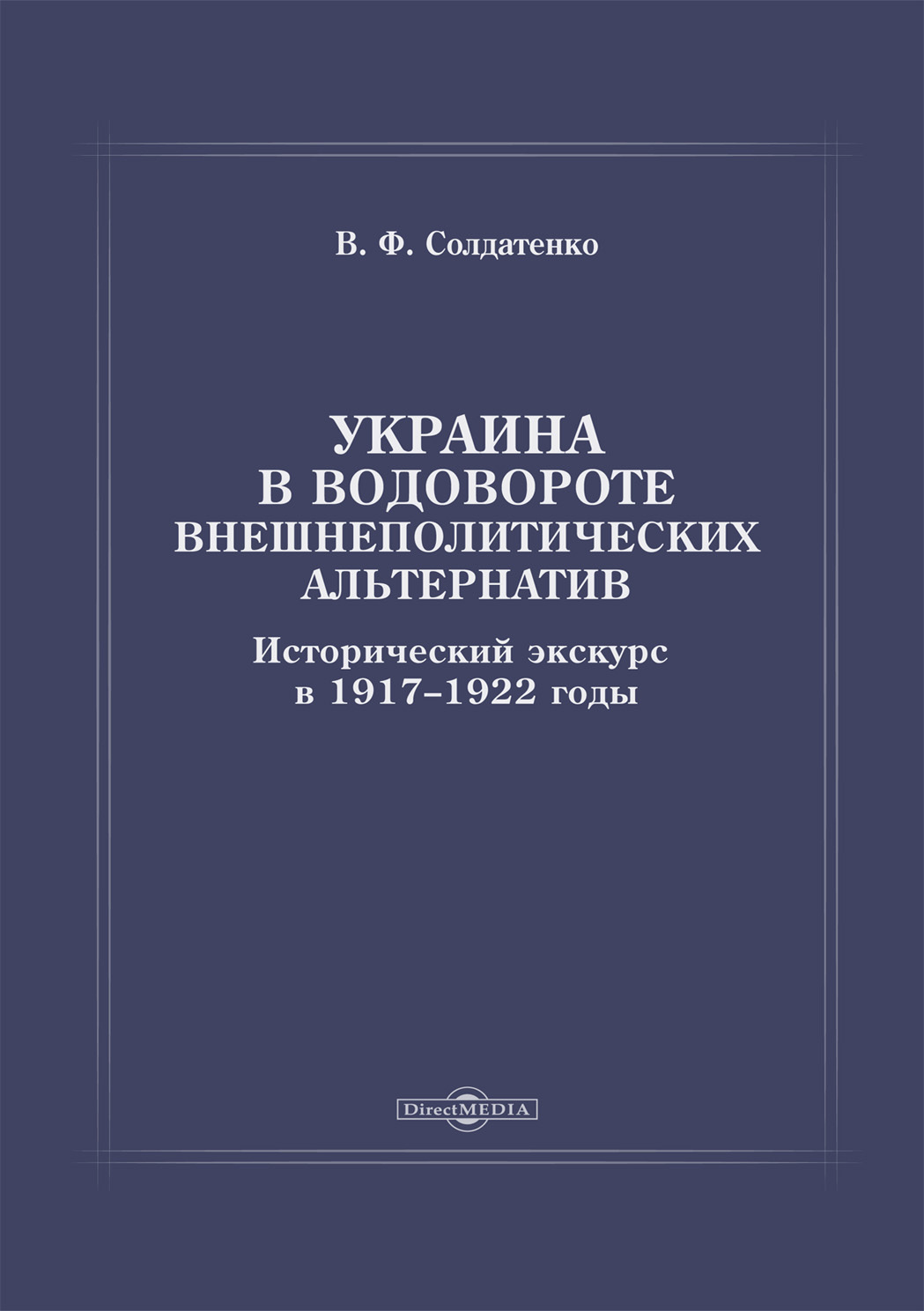Шрифт:
Закладка:
В этот сборник вошли несколько знаковых произведений, которые оказали огромное влияние на дальнейшее творчество Гессе и сформировали темы будущего magnum opus – «Игры в бисер». В повести «Кнульп» великий мастер рассказывает историю истинного мечтателя и вечного странника. Он человек-загадка без корней и привязанностей; свободная душа, существующая вне установленного порядка вещей. «Демиан» – философско-мистический, во многом автобиографичный роман о взрослении и становлении юноши, который открывает в себе глубинное, темное «я». В этом ему помогает таинственный друг Демиан – носитель «печати Каина», не то дьявол, не то загадочное божество, не то просто порождение воображения героя. «Сиддхартха» – жемчужина прозы Гессе, на страницах которой нашли свое отражение впечатления писателя от поездки в Индию, а также его размышления об одной из наиболее глубоких и мудрых религий человечества – буддизме. В издание также включены философские повести «Последнее лето Клингзора», «Душа ребенка», «Клейн и Вагнер».