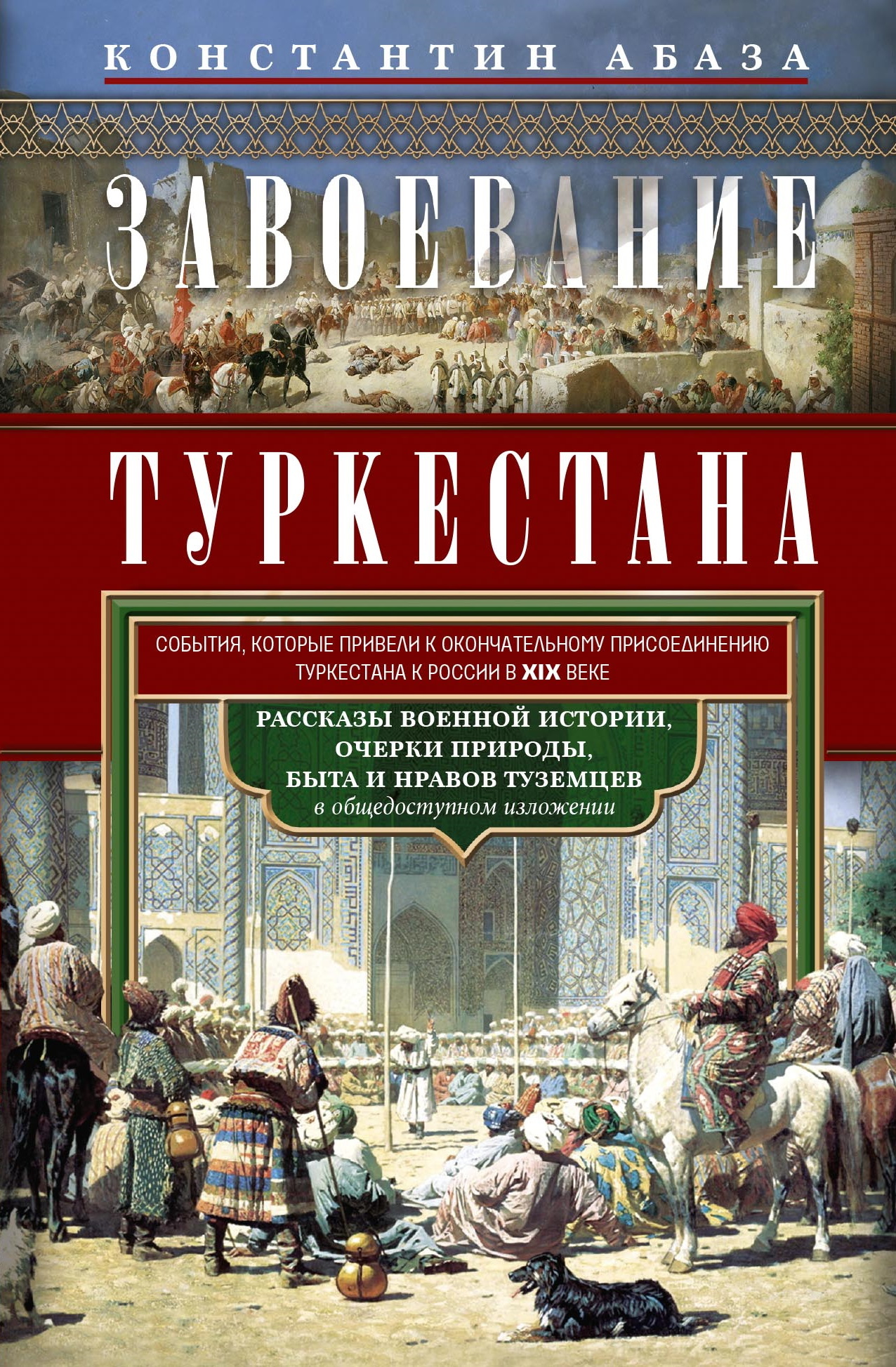Шрифт:
Закладка:
Автор — бунтарь-революционер, деятель меньшевистской партии. Боролся против монархии и, как следствие, преследовался ею. После Октябрьского переворота также оказался нежелательным элементом. Пройдя с 1918 по 1922 год горнила советских тюрем, одиночную камеру и голодовки, он не только выжил, но и сумел сохранить человеческое достоинство. Опыт пребывания в застенках оказался труден, но не смертелен. После освобождения из заключения и прихода НЭПа, автор, как неугодный новой власти, был выслан за границу, где в 1929 году, в Берлине, впервые вышла эта книга. Его очерки по содержанию своему посвящены не только описанию тюремного быта, но также изображению жизни России на заре красного террора. Если в странах политического бесправия тюрьма всегда — зеркало жизни, то еще резче выступает это явление в революционную эпоху.