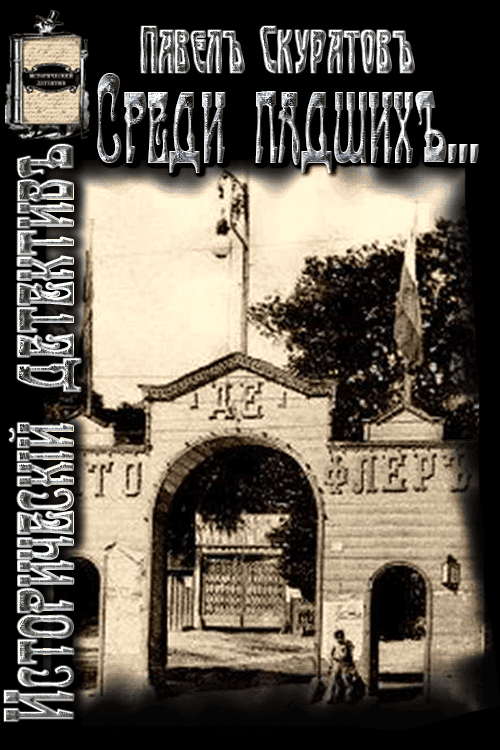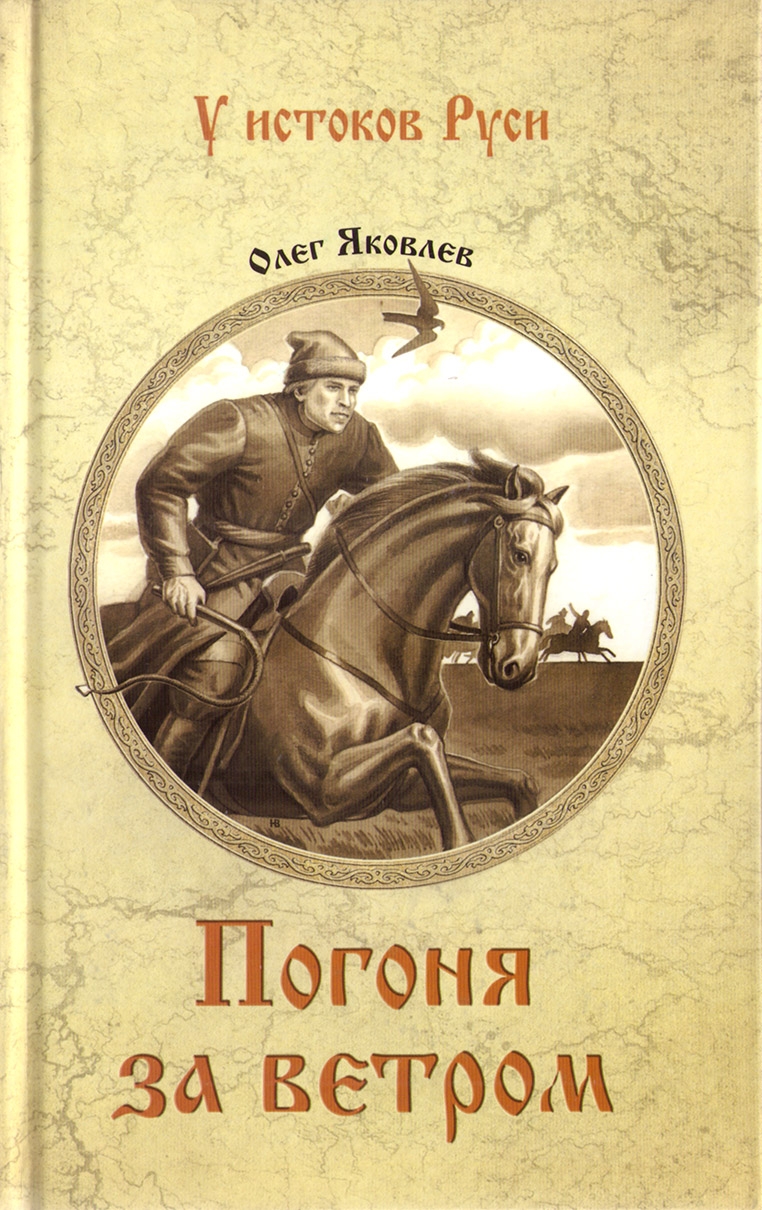Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Созданный на рубеже XIX и ХХ веков уголовный роман актера, писателя и драматурга П. Скуратова посвящен судьбам девушек, попавших в руки безжалостных торговцев живым товаром, и сочетает картины жизни обездоленных с описанием полицейского расследования загадочного убийства. При создании обложки, использовал изображение, предложенное издательством.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Павел Леонидович Скуратов»: