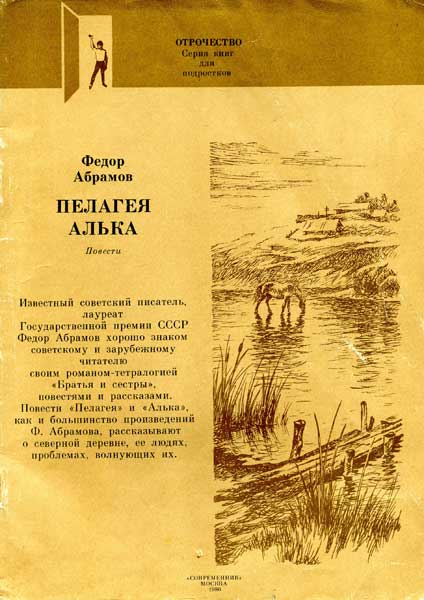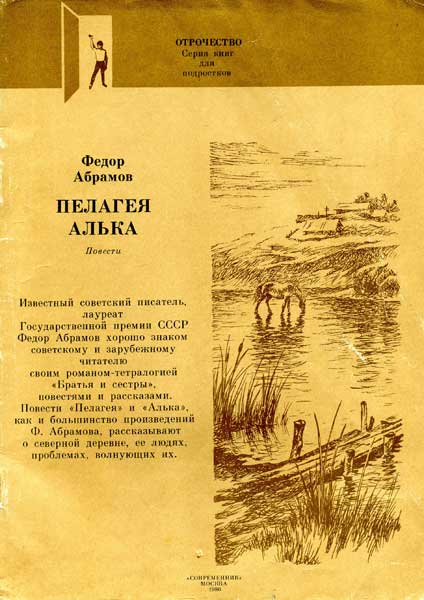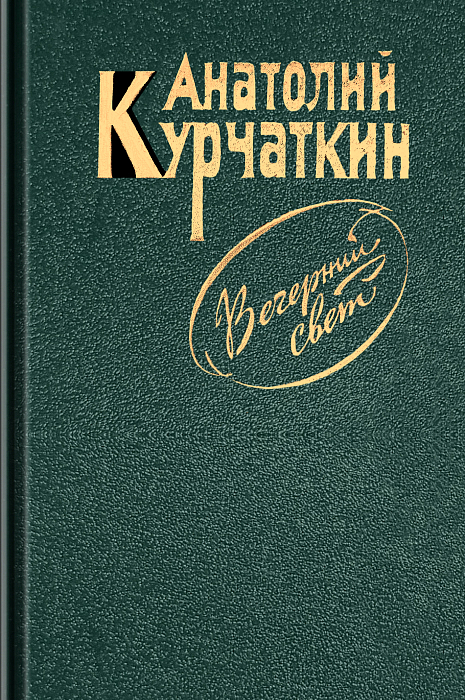Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Повесть „Пелагея“, как и большинство произведений Ф. Абрамова, рассказывает о северной деревне, ее людях, проблемах, волнующих их».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Фёдор Александрович Абрамов»: