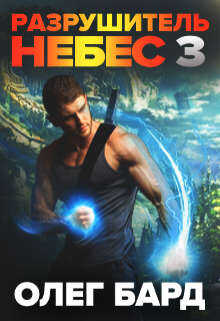Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Я вернулся в себя четырнадцатилетнего, зная наперед, что будет дальше. Меняя себя и судьбы близких, я стал замечать, что и реальность меняется.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Денис Ратманов»: