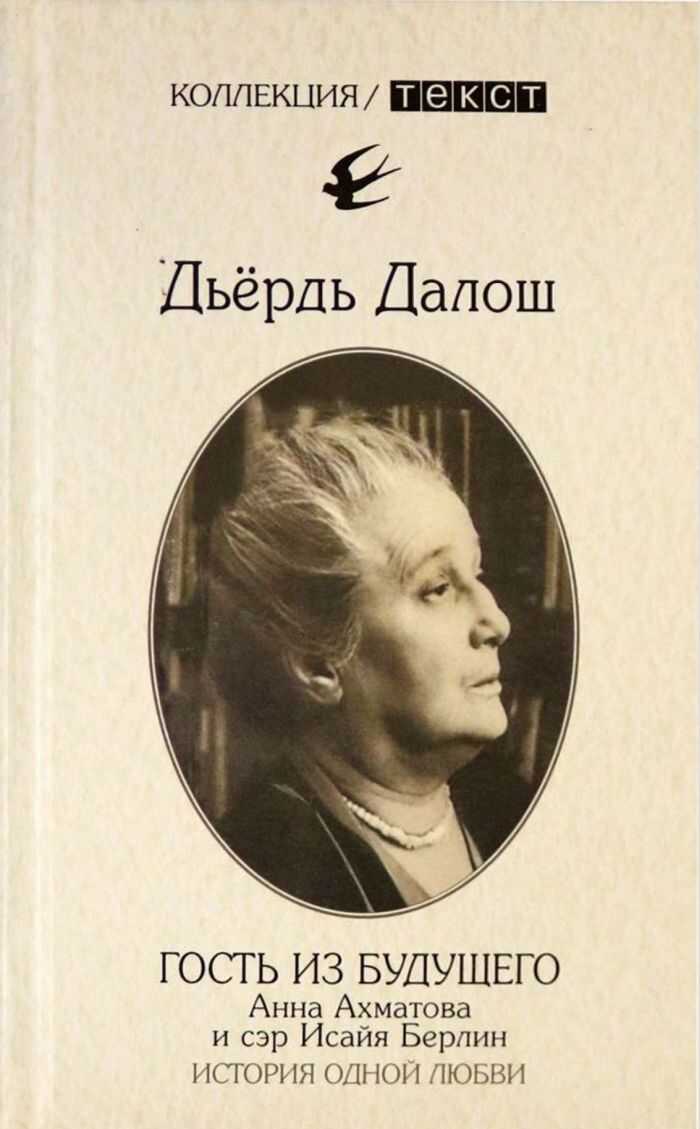Шрифт:
Закладка:
Что итальянец может рассказать нам про величайшую русскую поэтессу?Анна Ахматова – та, что, как говорил Иосиф Бродский, «одним только тоном голоса или поворотом головы превращала вас в гомо сапиенс». Женщина, пережившая две мировые войны и ставшая самым популярным голосом России в тяжелые для страны времена.Она страдала, как страдают души, которые, даже сдаваясь, не сдаются. Она не переставала писать, даже когда ее стихи могли передаваться только из уст в уста. В конце жизни она смогла стать тем, кем хотела – величайшей поэтессой своего времени.Паоло Нори, известный итальянский писатель, автор множества переводов с русского языка и профессор миланского университета, расскажет историю этой поистине удивительной женщины.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.