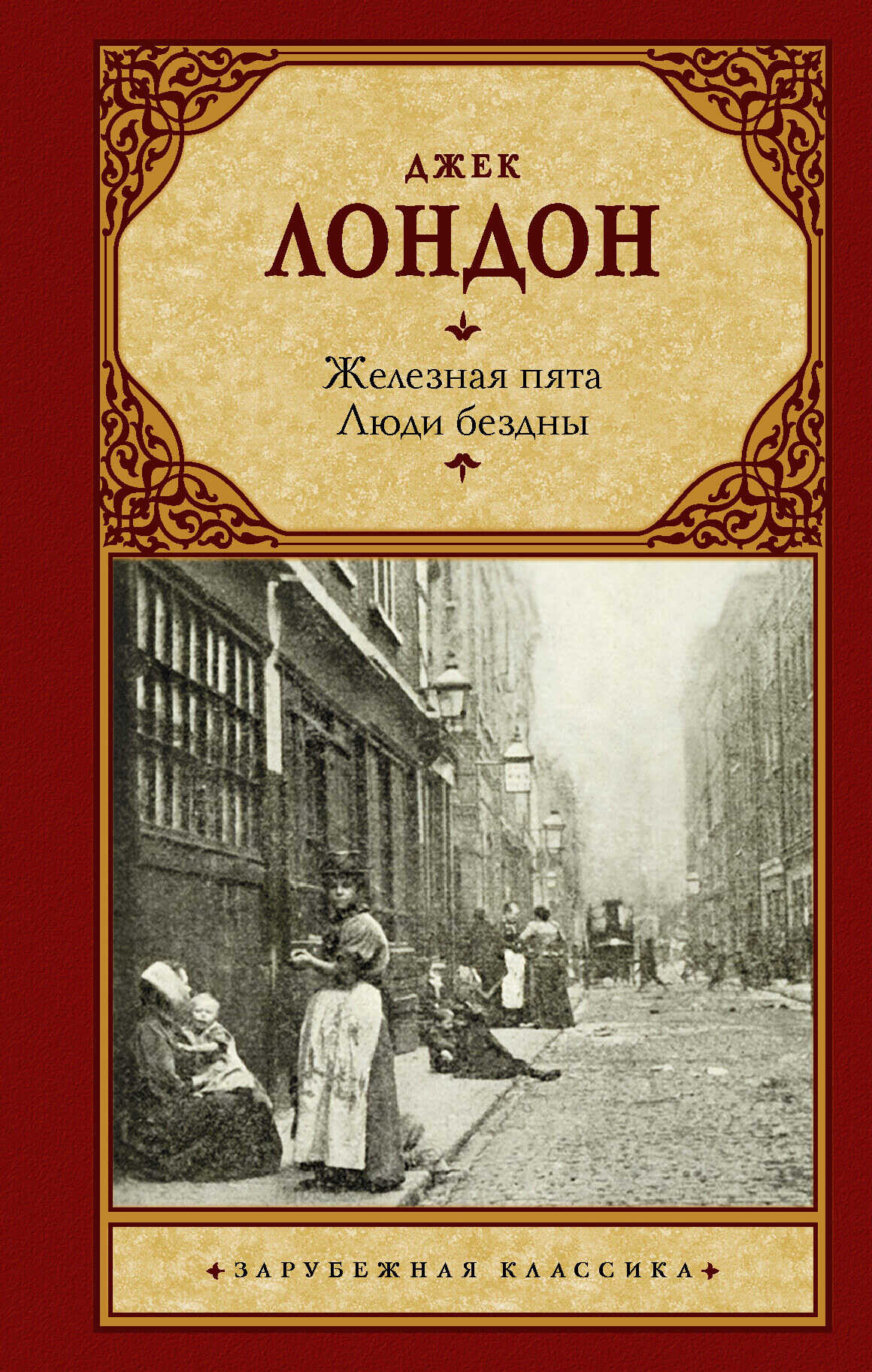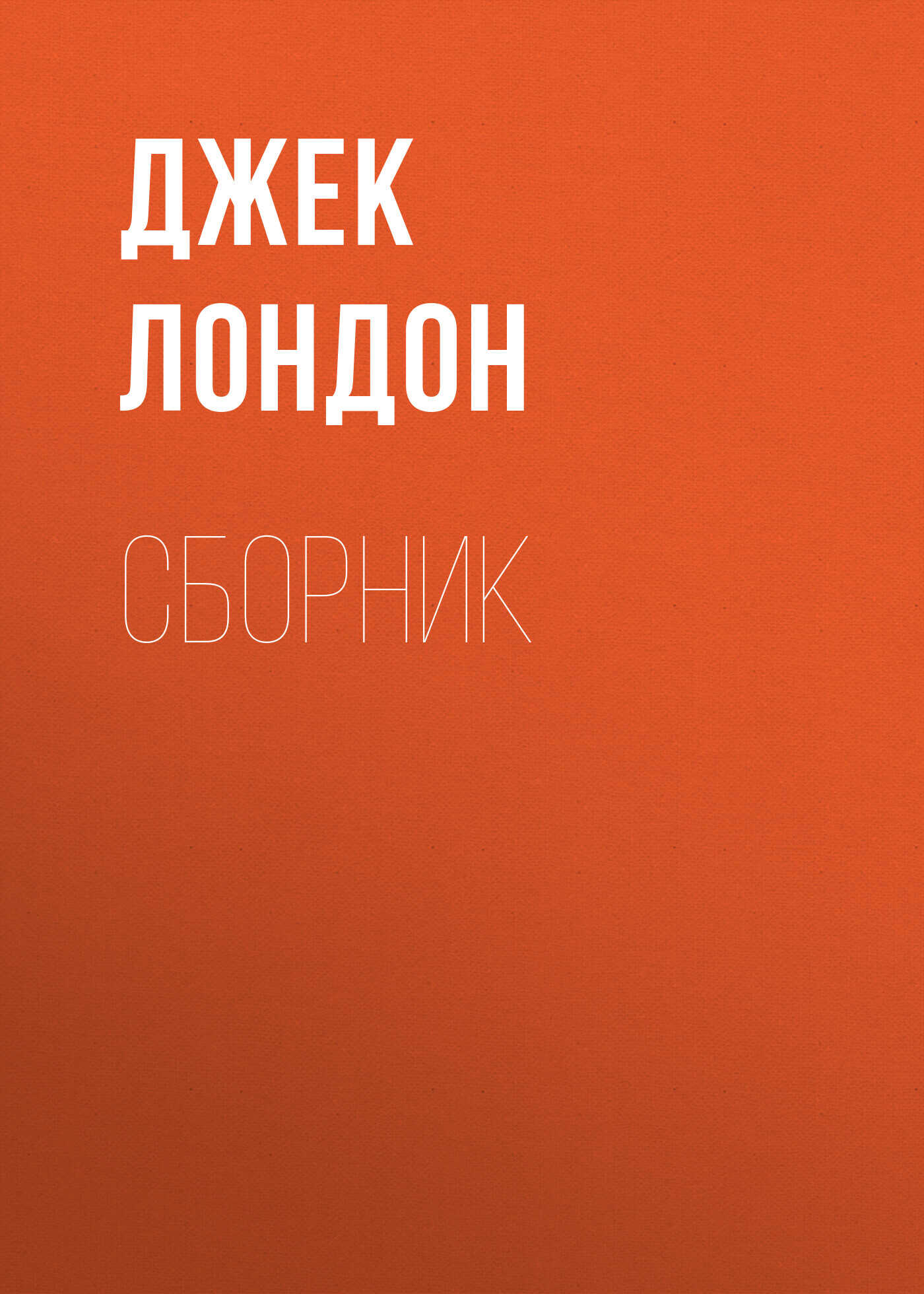Шрифт:
Закладка:
«Железная пята» – весьма необычный и увлекательный роман-антиутопия, посвященный ближайшему (на момент публикации в 1908 году) будущему США и планеты Земля в целом. Как и никому из мастеров антиутопического (да и утопического) жанра, Лондону не удалось в точности предсказать будущее. Однако сбылось многое из того, о чем он написал в романе, – и гигантские корпорации, поглощающие малый и средний бизнес, и сама идея «корпоративной культуры», и мировые войны с Германией, и даже… 1917 год как дата мощного социального взрыва.«Люди бездны» – сборник очерков о трагической жизни лондонских бедняков, ради написания которого автор, с присущим ему благородным авантюризмом, переоделся в отставшего от корабля матроса и несколько месяцев прожил среди своих будущих персонажей, деля с ними нищету и невзгоды. Перед читателем проходит целая галерея обитателей этого ада на земле – опустившихся и несчастных или сильных, целеустремленных и готовых бороться за существование.