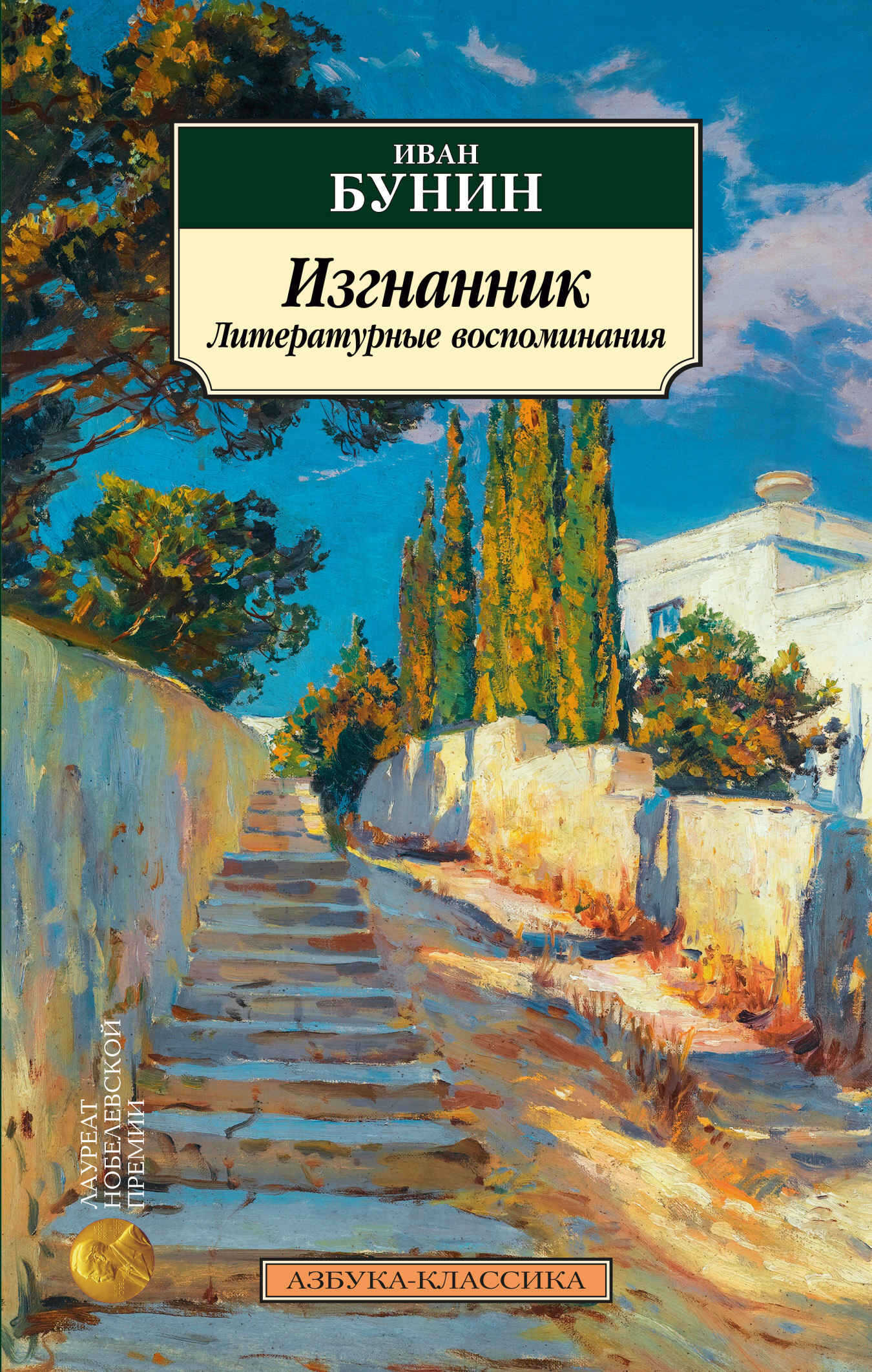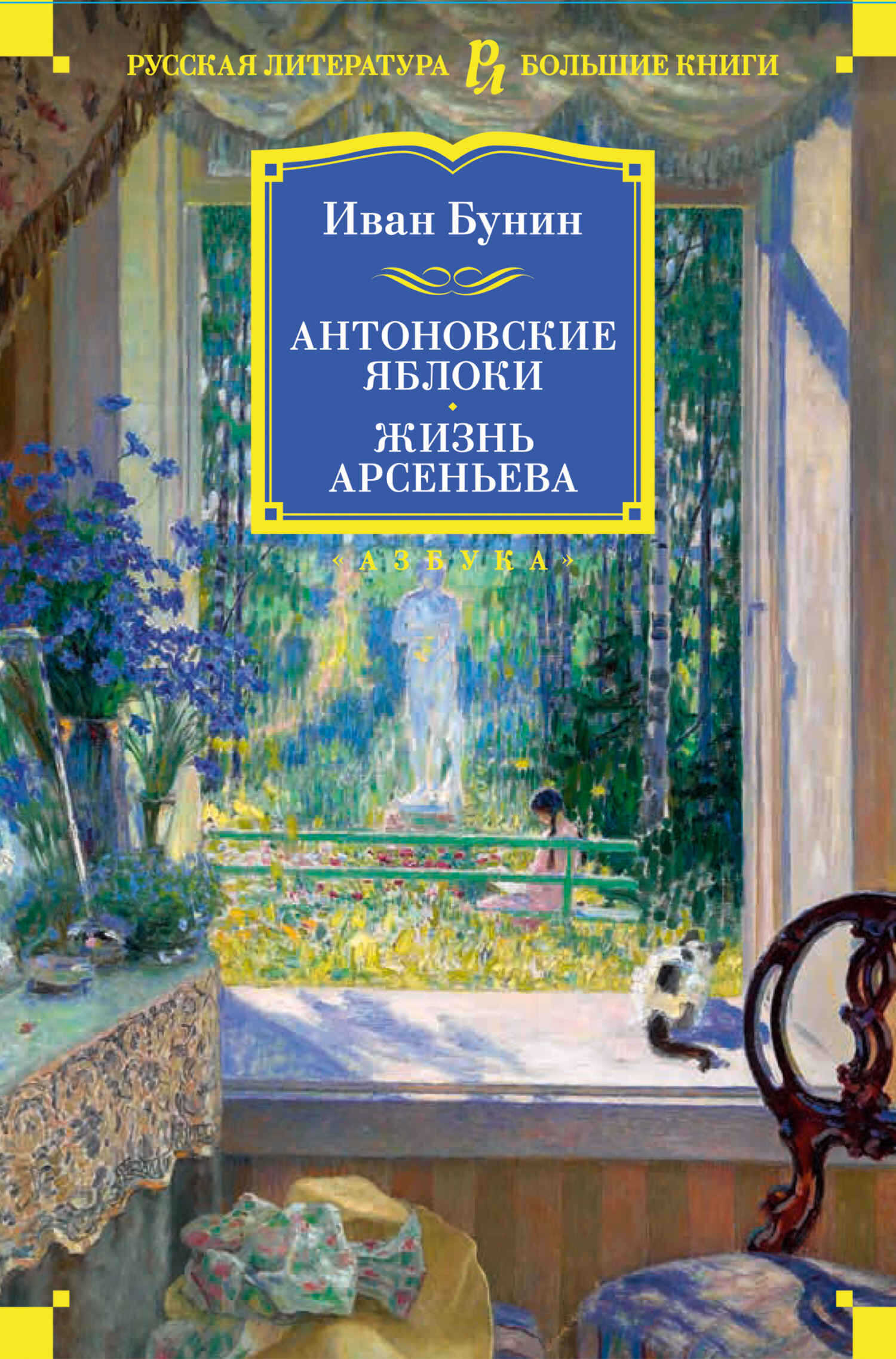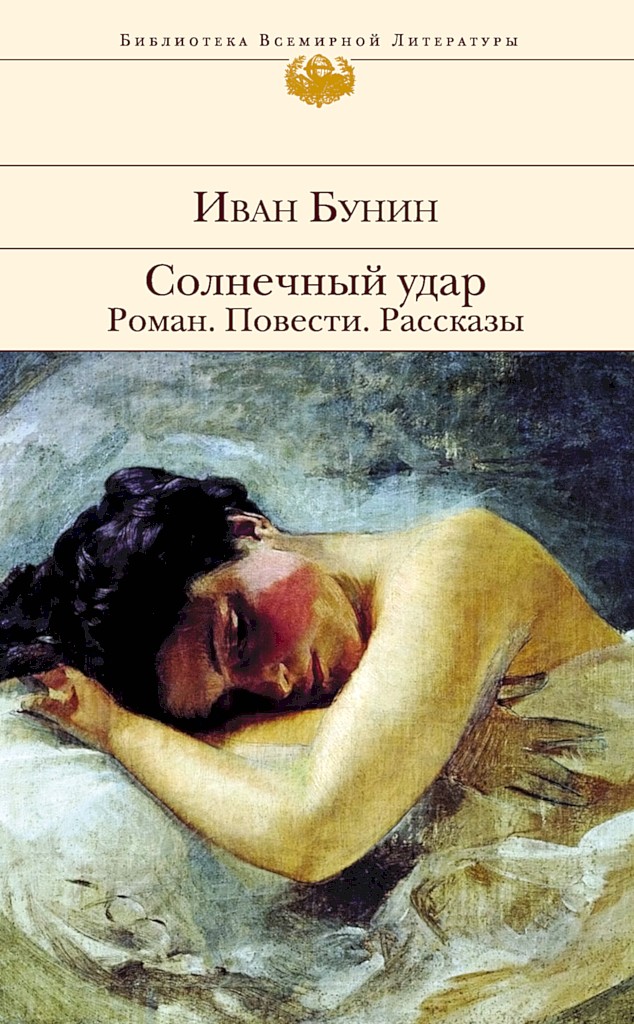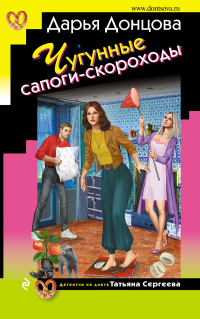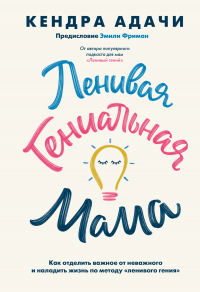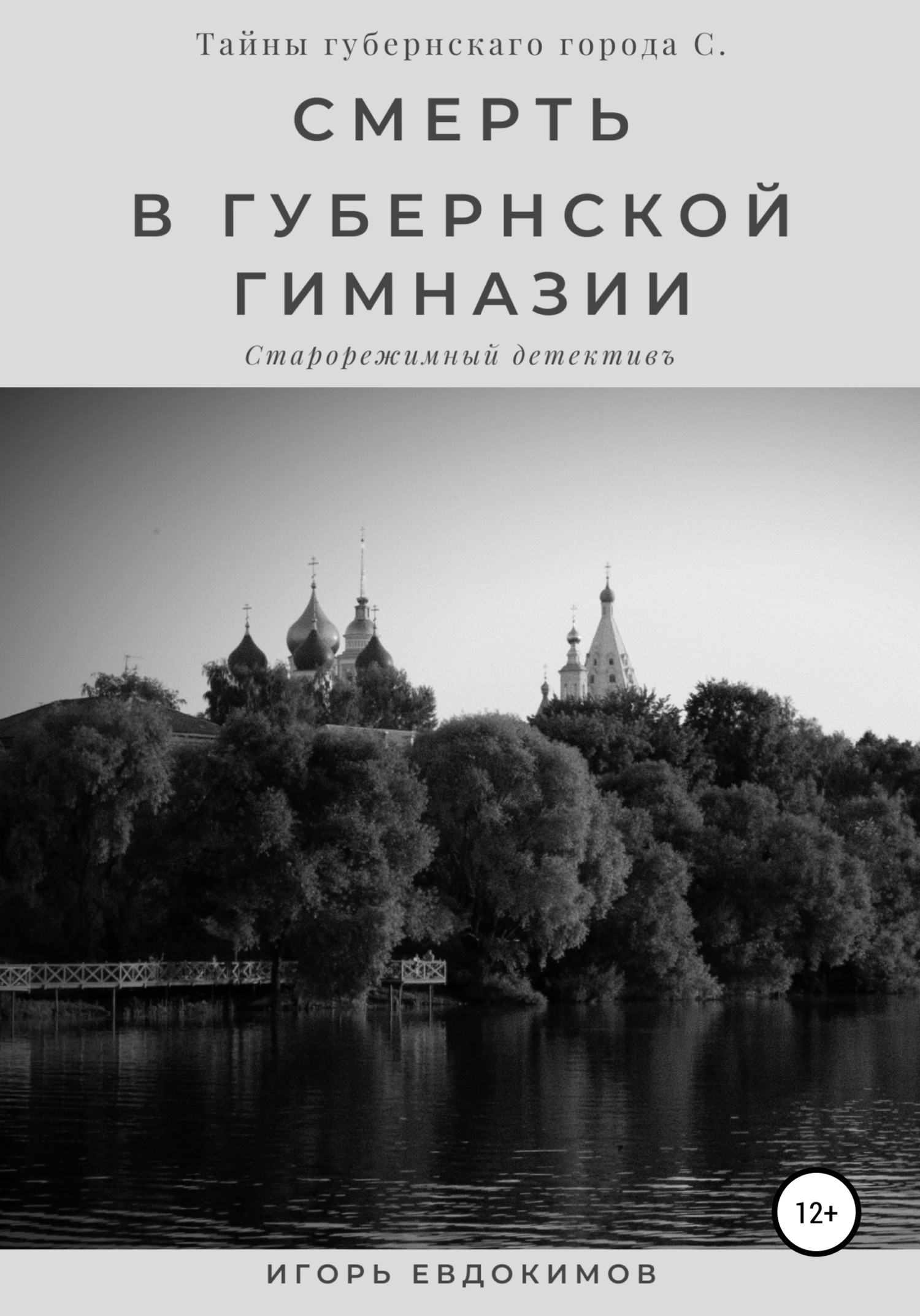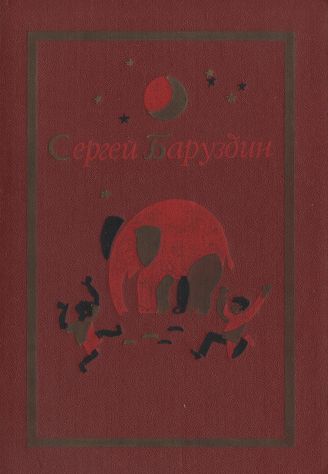Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Иван Бунин — первый русский Нобелевский лауреат, трижды был награжден Пушкинской премией, самый молодой академик Петербургской Российской академии. В XX веке продолжил традиции великой русской литературы XIX века, мастерство И. Бунина настолько тонко и отточено, «…что все описанное — совсем не описанное, а просто-напросто существующее», по мнению Ф. Степуна.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Алексеевич Бунин»: