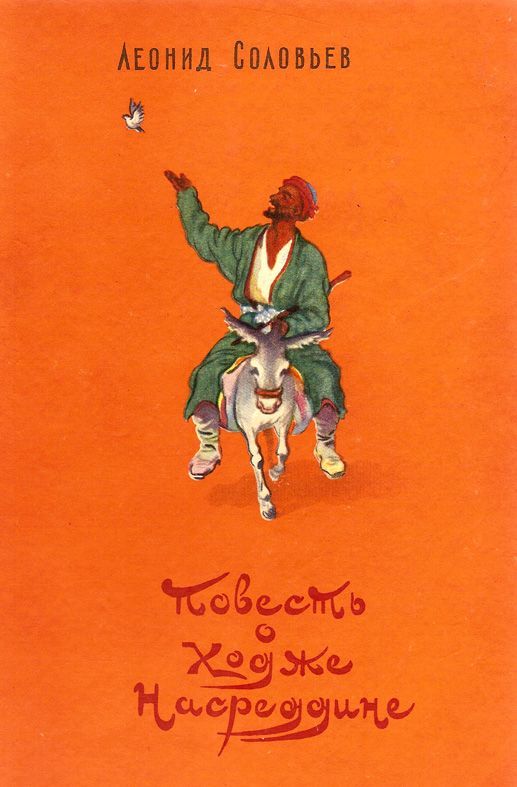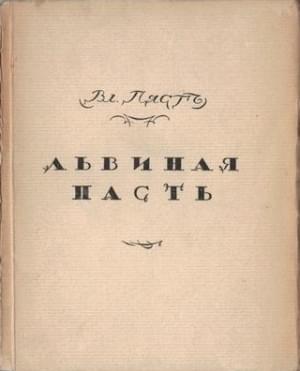Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Есть книги, которые становятся подлинно народными. Их читают с увлечением люди разных возрастов и разных характеров, читают, улыбаясь и хохоча, чтобы вдруг задуматься, взгрустнуть и понять то, что не приходило им в голову раньше. К числу таких славных и мудрых книг относится «Повесть о Ходже Насреддине» — Главная книга писателя Леонида Соловьева, удивительный сплав сказки, были и философских мечтаний, воплощенных в земные образы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Леонид Васильевич Соловьев»: